Образование и динамика областных и региональных форм в народной музыке Латинской Америки
Особенности исторического формирования и современного состояния латиноамериканской музыкальной культуры, равно как и колоссальный объем и чрезвычайная этногенетическая пестрота самого материала, составляющего содержание понятия «музыка Латинской Америки», заставляют нас сделать ряд предварительных замечаний, имеющих целью, во-первых, ограничить избранную тему — соотношение национальных и общерегиональных форм в музыкальной культуре Латинской Америки — лишь самыми основными аспектами и, во-вторых, уточнить термины «национальное» и «общерегиональное» в применении к латиноамериканской музыке. Начнем с некоторых общеизвестных, но тем не менее необходимых, на наш взгляд, положений.
1
Музыкальная культура Латинской Америки исторически сложилась на базе трех культурных источников: американского (индейского), европейского (в первую очередь испанского и португальского) и африканского. Вклад и последующая, в процессе формирования, роль каждого из них были неодинаковы в разных районах континента — в зависимости от уровня индейской культуры, численности негритянского населения, связей данного района с метрополией и характера его экономического, политического и культурного развития, а также ряда иных объективных причин. В то же время эти три различных генетических корня отчетливо видны и в структуре современной латиноамериканской музыки, в которой мы выделяем соответственно три пласта, или сферы: музыку индейскую, креольскую (т. е. ведущую происхождение от европейской) и афро-американскую. Из этих трех слагаемых только индейская музыка является автохтонной культурой. Креольская и афро-американская музыка — сравнительно молодые новообразования, современный облик которых сложился лишь к концу прошлого столетия. Исторически креольская музыка — не что иное, как испанская и португальская, эволюционировавшая в колониях иначе, чем в метрополиях. Афро-американская музыка — продукт взаимодействия европейской (исходной) и африканской (ассимилирующей) музыкальных культур. Генетически афро-американская музыка представляет собой ту же европейскую музыку, преобразованную длительной исполнительской традицией африканских негров.
Поскольку термин «общерегиональное», в каком бы смысле мы его ни употребляли в дальнейшем, естественно подразумевает наряду с другими географический аспект, рассмотрим территориальное распространение индейской, афро-американской и креольской музыки в масштабе всего Латиноамериканского региона. Прибегнем к самому простому и наглядному примеру.
Представим себе мысленно контурную карту Латинской Америки и заштрихуем на ней, например горизонтальной штриховкой, территории, на которых обитают компактные группы индейского населения и где, следовательно, сохраняется индейская музыка. Наиболее густо будут заштрихованы Центральные Анды, от Эквадора на севере до северо-западных провинций Аргентины на юге; это территория бывшей «Инкской империи», зона расселения народов кечуа и аймара. К северу от этой сплошной зоны отдельные заштрихованные ареалы окажутся разбросанными по территории Колумбии и Венесуэлы, протянутся узкой цепочкой по республикам Центральной Америки и образуют целую россыпь на карте Мексики (народы науа, или ацтеки, майя, отоми, сапотеки, миштеки, тараски, яки и др.). К югу от «Инкской империи» крупные индейские ареалы расположатся в междуречье Параны и Парагвая (индейцы гуарани) и в южной части Среднего Чили (индейцы мапуче, более известные как арауканы). Наконец, многочисленные, но мелкие отдельные штрихи рассеются по громадной территории бассейна Амазонки.
Проделаем аналогичную операцию в применении к афро-американской музыке, использовав для этого, скажем, вертикальную штриховку. Она покроет сплошной сеткой Антильские острова и все Атлантическое побережье Южной Америки от Колумбии и Венесуэлы до южных штатов Бразилии. При этом самая густая штриховка окажется в Карибском бассейне и на северо-востоке Бразилии. Именно сюда, на плантации сахарного тростника на Антильских островах и кофе в Бразилии, в период работорговли было ввезено больше всего африканских невольников.
Теперь заштрихуем косыми линиями территорию преимущественного распространения креольской музыки (преимущественного, поскольку креольская музыка бытует всюду, где есть креольское и метисское население, т. е. встречается в Латинской Америке почти повсеместно). Эта зона охватит всю Мексику и Центральную Америку, большую часть Антильских островов, протянется широкой полосой вдоль всего Тихоокеанского побережья от Панамы до Магелланова пролива, пройдет такой же широкой лентой по Атлантическому побережью континента и займет всю южную (суженную) часть материка. Свободными от косой штриховки останутся лишь чрезвычайно мало заселенный бассейн Амазонки, охватывающий, помимо половины Бразилии, внутренние области Венесуэлы, Колумбии, Перу и Боливии, а также компактный «индейский» массив в Центральных Андах.
На полученной таким образом карте видно, что во многих местах разные штриховки либо соприкасаются, либо частично или полностью наложены одна на другую. Так, индейские ареалы на территории Мексики или Чили выглядят изолированными островками на сплошном креольском фоне. Зона индейской музыки в андских странах на всем протяжении своих границ соприкасается с креольской. Карибский бассейн и Атлантическое побережье покрыты двойной штриховкой —«креольской» и «афро-американской». Южная часть континента оказывается целиком креольской.
Как ни схематична наша «музыкальная карта», она все же позволяет сделать некоторые важные выводы. Во-первых, музыкальная культура Латинской Америки, рассматриваемая в целом, является сложным (многосоставным) художественным комплексом. Далее, на карте видно, что в различных районах континента преобладает та или другая музыкальная культура — либо креольская, либо индейская, либо афро-американская. Наконец, территории, покрытые на карте двойной штриховкой, указывают на наличие здесь смешанных, гибридных музыкальных форм, подобно тому как на границах смежных ареалов должны существовать переходные, т. е. также частично смешанные, типы и формы.
Если же теперь мы нанесем на нашу карту государственные границы, то убедимся, что все только что сказанное о латиноамериканской музыке в целом справедливо и по отношению к национальным музыкальным культурам большинства отдельно взятых стран региона. Например, на территории Бразилии присутствуют все три музыкальных комплекса — индейский, креольский и афро-американский; на Кубе и южном побережье Карибского моря — креольский и афро-американский; в андских странах — индейский и креольский и т. п. В этом отношении почти каждая страна Латинской Америки демонстрирует то же разнообразие и взаимопроникновение музыкальных культур, что и континент в целом. В то же время можно выделить три группы стран по признаку преобладания той или иной музыкальной культуры. Так, в Мексике, странах Центральной Америки, Чили, Аргентине, Уругвае доминирует креольская музыка; на Антильских островах и в Бразилии — афро-американская; в Эквадоре, Перу и Боливии — индейская.
Рассмотрим теперь самым беглым образом и сравним между собой наиболее характерные черты индейской, креольской и афроамериканской музыки.
Несмотря на имевшие место в прошлом и продолжающиеся сегодня контакты индейской и креольской музыки (контакты, как правило, локальные и односторонне направленные — воздействие креольского на индейское), несмотря на «родственные связи» креольской музыки с афро-американской и ощутимое, ставшее особенно явным в XX столетии влияние на креольскую музыку африканизированных стилей,— несмотря на это, индейская, креольская и афро-американская музыка представляют собой три Разных художественных мира, основанных на совершенно различных музыкальных системах и художественно-эстетических принципах. Индейская пентатоника и креольская диатоника на баз европейской функциональной гармонии; преобладание трехдольных метров в креольской и абсолютное господство двухдольных в индейской и афро-американской, полиметрия креольской и полиритмия афро-американской музыки; импровизационность как главный принцип развития в афро-американской в противоположность многократной строгой фиксации исполняемой модели в креольской музыке; главенствующая роль духовых инструментов в индейской музыке, струнных щипковых в креольской и ударных в афро-американской; наконец, коллективный характер музицирования в афро-американской и отчасти индейской и индивидуальный — в креольской музыке — таковы лишь некоторые фундаментальные различия между ними, и, хотя индейская, креольская и афро-американская музыка не отделены друг от друга китайской стеной, тем не менее первая остается исключительно достоянием индейцев, а вторая и третья — по преимуществу креолов и негров (включая мулатов) соответственно. Поэтому латиноамериканская музыка, взятая в целом, предстает перед нами не как единый художественный организм, а скорее как конгломерат трех самостоятельных музыкальных культур, слишком отличных друг от друга по самым существенным своим параметрам, чтобы мы могли, даже в чисто теоретическом плане, рассматривать их как некое цельное единство, могли бы объединить их на основании каких-то типологически общих признаков. Таких общих признаков нет.
Исходя из сказанного (и по-прежнему имея перед собой нашу «музыкальную карту»), мы вправе если не утверждать, то по крайней мере предположить с большой долей вероятности, что в латиноамериканской музыке, взятой на фольклорном и народном уровнях и в масштабе всего региона, едва ли найдутся такие формы, жанры, типы, стилистические черты, которые были бы одинаково типичны, скажем, для Мексики и Бразилии или для Бразилии и Перу, для Перу и Кубы, для Кубы и Чили и т. д., т. е. такие формы, жанры, черты стиля, которые соответствовали бы понятию «общерегиональное» в его географическом аспекте. С другой стороны, мы также вправе ожидать известной общности местных, национальных черт в музыке не только таких соседних стран, как Аргентина и Уругвай или как Эквадор, Перу и Боливия, но и таких удаленных друг от друга, как Мексика и Чили или Бразилия и Куба. Но если наши предположения справедливы, то возможность выявления как общерегиональных, так и локально-национальных черт в латиноамериканской музыке становится по меньшей мере проблематичной.
2
Наша задача намного упростится, если мы ограничим сферу поисков какой-нибудь одной — либо индейской, либо афро-американской, либо креольской — музыкой. Остановимся на креолькой, как наиболее представительной по числу «говорящих» на ее языке, наиболее развитой и богатой разнообразными формами, а главное, распространенной, как мы видели выше, практически по все- MV Латиноамериканскому региону. Последнее обстоятельство, в случае если мы обнаружим признаки, свойственные всей без исключения креольской музыке, даст нам право (пусть и с известной оговоркой) считать эти признаки общерегиональными. Условимся также, исключительно ради краткости изложения, иметь в виду креольскую музыку только Испанской Америки. (Процессы образования креольской музыки в испанских и португальских колониях Америки во всех своих главных чертах протекали идентично, хотя конечные результаты оказались достаточно несхожими из-за различного исходного материала.)
Естественно, что музыка колоний первое время оставалась чисто испанской. Это была та же музыка военных духовых оркестров, те же песни и танцы, та же церковная и светская салонная музыка, которая звучала в Кастилии, Леоне, Эстремадуре, Андалусии. При этом одни и те же романсы и вильянсико пели под аккомпанемент одних и тех же виуэл, лаудов и рабелей на Кубе, в Мексике, в Перу, на Ла-Плате и одни и те же культовые сочинения испанских полифонистов исполнялись в храмах Гаваны, Мехико, Лимы, Боготы и Каракаса. В то время решительно вся музыка, звучавшая на континенте среди конкистадоров и колонистов, была «общерегиональной» в самом строгом значении этого слова. Но эта музыка еще не была креольской, т. е. латиноамериканской.
Хотя слово «креол» впервые встречается в книге Хуана Лопеса де Веласко «География и общее описание Индий», написанной в Мехико между 1571 и 1574 гг., музыка, которую мы вправе называть креольской, сложилась позднее. Сейчас уже невозможно ни проследить, ни реконструировать те процессы, которые происходили в музыке испанских колоний на протяжении XVI—XVII вв. Только с начала XVIII столетия появляются документы, убеждающие в том, что эта музыка (танцы и песни) уже отличалась от испанской. Так, французский путешественник Амеде Франсуа Фрезье, посетивший в
Так писал француз. Но танцы той эпохи не были и испанскими, поскольку они удивляли испанцев так же, как и французов. Двумя десятилетиями позже Фрезье испанцы Хорхе Хуан и Антонио де Ульоа наблюдали в Лиме «здешние фанданго, столь же изящные, сколь удивительные». Те же авторы около
Эти «местные» танцы отличались от европейских не только хореографией, но и музыкой. Соответственно и песенные жанры той эпохи — ярави, тристе, как свидетельствуют описания современников, также обладали ярко выраженным местным колоритом3.
В нашу задачу не входит рассмотрение самого процесса кре- олизации испанской музыки в Америке. Важно, что на рубеже XVII—XVIII вв. в испанских колониях Нового Света уже сложилась новая, отличная от породившей ее музыкальная культура — креольская. Последующее непрекращающееся воздействие европейской музыки, особенно усилившееся после завоевания американскими колониями независимости (причем воздействие уже не только испанской, но и французской, итальянской, английской, позже славянской музыки), еще более модифицировало креольскую музыку. Поэтому, хотя она и сегодня сохраняет чисто европейскую основу (лады, гармония, характер мелоса, структура периодов, метрика, стихосложение), ее общий художественный облик, колорит решительно не похожи на музыку Испании или любой другой европейской страны. Креольская музыкальная культура, несмотря на свое европейское происхождение,— явление настолько же своеобразное, насколько художественно яркое и богатое индивидуальными формами своего выражения.
Этническое, культурное и языковое родство креольского населения Латинской Америки и сходные судьбы его исторического развития обусловили такую черту креольской музыки, как единство художественного проявления в целом, в масштабе всего континента, при огромном разнообразии местных, областных форм. Это единство прослеживается на множестве примеров от Калифорнии до аргентинской Пампы и от Антильских островов до Чилоэ. Господство трехдольных метров, переменные метры и полиметрия, мажоро-минор, пение на два голоса параллельными терциями, кастильский восьмисложник как наиболее частый стихотворный метр и копла как самая распространенная форма стихотворной строфы в песенной поэзии, парные танцы-пантомимы (пикарески) как повсеместно преобладающий хореографический тип, гитара (или местные ее разновидности) в качестве основного инструмента — постоянные признаки креольской музыки. В то же время почти в каждой стране региона креольская музыка обладает своими характерными чертами. Более того, разнообразие местных проявлений креольской музыки постоянно наблюдается и в пределах одной страны, подчас одной провинции или штата. Различия могут проявляться в ладовом строе, в метрике, в преобладании тех или иных песенных или танцевальных жанров, в предпочтении, оказываемом тем или иным музыкальным инструментам, и т. п.
Эволюция испанской музыки в креольскую на территории Латинской Америки до известной степени схожа с процессом распада единого языка на областные говоры, при котором изменениям подвергаются наиболее подвижные части языка (лексика, фонетика), основа же его — грамматический строй — остается, как правило, без существенных изменений. От общерегионального единства — к областным своеобразиям — так можно коротко охарактеризовать эволюцию испанской музыки в креольскую. В этой эволюции действовали центробежные силы, и они со временем привели к множественности проявления первоначально единого музыкального языка, к образованию многих его разновидностей, которые сегодня мы называем музыкой кубинской, мексиканской, венесуэльской, чилийской, аргентинской и т. д., тем самым признавая за ними уже не только областной, но и национальный характер. При этом как креольская музыка в целом несет на себе неизгладимую печать испанской музыки-прародительницы, так и местные национальные креольские музыкальные культуры связаны кровными узами с той, выразимся так условно, общекреольской субстанцией, которую можно определить как совокупность наиболее глубинных, неизменяемых родовых черт и признаков креольской музыки. Эта связь, в свою очередь, обусловливает большую или меньшую близость между собой местных национальных музыкальных культур, даже удаленных друг от друга на тысячи километров и не имевших в прошлом непосредственных культурных контактов.
Прежде чем вернуться к нашей теме — соотношению общерегионального и областного (напомним — в рамках креольской музыки), необходимо выяснить еще один момент.
Мы не случайно до сих пор употребляли слова «областное», «местное», «национальное», не дифференцируя их и не уточняя их содержания. В народной музыке Латинской Америки эти понятия далеко не всегда тождественны. «Национальное» (кубинское, мексиканское, аргентинское) географически привязано к государственным границам, последние же, как правило, не совпадают с границами «музыкальных диалектов» (мы отчасти уже видели это на нашей карте-схеме). Так, народная музыка венесуэльских и колумбийских льянос во всем идентична («Гитара, гамак и конь объединяют венесуэльского льянеро с колумбийским...— говорит Хуан Лискано.— Их песни составляют один кансьонеро, и фольклор их — один и тот же»4); то же можно сказать о музыке северо-западных провинций Аргентины, с одной стороны, и Боливии — с другой (по словам Аны де Кабрера, «в Боливии аргентинский путешественник не чувствует себя чужеземцем, слыша звуки народных песен своей страны»5). При изучении народной музыкальной культуры Латинской Америки целесообразнее рассматривать ее не по отдельным странам, а по этногеографическим зонам, поэтому в настоящем очерке мы предпочитаем (за исключением тех случаев, где это будет в дальнейшем специально оговорено) противопоставлять общерегиональному не национальное, а областное своеобразие. Это никоим образом не ставит под сомнение национальный характер музыкальной культуры той или иной латиноамериканской страны, а просто отражает одну из особенностей территориального распространения народной латиноамериканской музыки.
Выше мы перечислили некоторые постоянные признаки креольской музыки. Можем ли мы считать их имеющими общерегиональный характер? Если под общерегиональными мы имеем в виду какие-то достаточно существенные и характерные признаки, постоянно и повсеместно проявляющиеся в креольской музыке, то ответ, по всей видимости, должен быть положительным. Действительно, обратившись, например, к такому фундаментальному элементу музыкальной системы, как метрика, мы легко убедимся, что трехдольные метры явно преобладают в креольской музыке Испанской Америки. Мексиканские сон и харабе, венесуэльский галерон и колумбийский бамбуко, перуанская маринера, парагвайская гуарания и уругвайский перикон, чилийский куандо и аргентинская самакуэка — все эти самые типичные креольские музыкальные формы имеют трехдольный метр. В равной мере для них характерны и отмеченные нами выше переменные метры и полиметрия.
И все же такой ответ не может полностью удовлетворить по ряду причин. Во-первых, трехдольные метры, хотя и бесспорно преобладают в креольской музыке, все же не являются единственными (например, в креольской музыке Кубы, а также исключенной из нашего обзора Бразилии удельный вес двухдольных метров весьма высок). Во-вторых, господствующая трехдольность унаследована креольской музыкой от испанской, она не является результатом местной эволюции и, следовательно, не может рассматриваться нами как специфически латиноамериканское явление. Наконец, сам по себе трехдольный (как и любой другой) метр, трехдольность как таковая, «в чистом виде» не более как условный символ, существующий лишь в теории; в каждом конкретном случае живой музыкальной практики трехдольность проявляется по-разному — в контексте и в зависимости от многих других элементов музыкальной речи — темпа, ритма, различных группировок длительностей, их регулярности, соотношения мелодической линии с аккомпанементом, полиметрии и полиритмии различных голосов и т. п. Подобно тому как совсем не похожи друг на друга одинаково трехдольные менуэт, полонез и вальс, так и все названные нами выше креольские формы от мексиканского харабе до аргентинской самакуэки, хотя и пишутся в трехдольных метрах, также представляют собой достаточно разные музыкальные явления даже в чисто метроритмическом плане, не говоря уже о их внешнем художественном облике. Но также нетрудно убедиться, что и остальные признаки креольской музыки, выделенные нами в качестве общерегиональных, при ближайшем рассмотрении оказываются столь же относительными. Так, мажороминорная диатоника выступает в разном обличье в креольской музыке Тихоокеанской зоны, с одной стороны (лидийский мажор; особый вид минора, образующего в восходящем движении мелодический, а в нисходящем — дорийский минор), и Атлантической зоны — с другой (натуральный мажор и мелодический минор, а также частое употребление миксолидийской септимы — возможно, как результат африканского влияния). Даже гитара как доминирующий инструмент креольской музыки является таковым лишь на первый взгляд. В действительности доминирует конструктивный тип — струнные щипковые (и отчасти гхлекторные) инструменты, из которых почти каждая латиноамериканская страна или группа стран избирает какой-то один конкретный инструмент, оказавшийся по ряду причин наиболее отвечающим местным музыкальным вкусам и требованиям. На Кубе это трес, в Венесуэле куатро и бандолин, в Колумбии виуэла и типле, в Эквадоре, Перу и Боливии чаранго (к ним можно прибавить бразильские виолу и кавакинью). Все эти типичные креольские инструменты, хотя и принадлежат к одному семейству, различаются между собой размерами, формой, числом и настройкой струн, тембром, силой звука, приемами игры, функцией (одни из них служат одновременно солирующими и аккомпанирующими инструментами, другие — только аккомпанирующими, третьи выступают лишь в сочетании с другими определенными инструментами и т. д.). Что же касается собственно гитары (речь идет о шестиструнной, так называемой испанской гитаре), то хотя она и распространена по всему континенту, но предпочтительным инструментом народных музыкантов является в сравнительно немногих странах — в Мексике, Чили (где, впрочем, ей не уступает в популярности гитаррон, чисто местный инструмент), на Ла-Плате. Таким образом, и гитара, рассматриваемая в качестве общерегионального инструмента креольской музыки, превращается в некое условное (родовое) понятие, характеризующее общий тип инструментов, но не сами инструменты.
Если принять во внимание, что к аналогичным результатам привело бы нас и рассмотрение в отдельности как индейской, так и афро-американской музыки, то становится очевидной вся сложность казавшейся простой на первый взгляд задачи. Насколько сравнительно легко выявить областные своеобразия креольской музыки, настолько затруднительным оказывается выделение и определение таких общих ее черт, которые отвечали бы сформулированным нами выше критериям общерегионального (существенные и характерные признаки, проявляющиеся постоянно и повсеместно). Обилие оговорок, которые мы вынуждены делать каждый раз при выделении того или иного общерегионального признака (ограничение подлежащего рассмотрению материала только креольской музыкой и только Испанской Америки, признание найденных признаков не специфически латиноамериканскими, а испанскими по происхождению, наконец, относительный характер самих признаков), в конце концов делает сомнительными наши выводы. Остается Допустить, что в креольской народной музыке Латинской Америки, взятой на уровне системы, общерегиональное существует не иначе, как лишь в реальном проявлении конкретных областных своеобразий, не будучи в то же время ни суммой этих своеобразий, ни чем-то их усредненным. В отвлечении от конкретных проявлений в местном общерегиональное выступает скорее как некое теоретическое обобщение, нежели эмпирическая («осязаемая») категория. Правда, такой вывод не зачеркивает всего, что было сказано выше. Поскольку мы без труда ощущаем нечто безусловно общее в звучании мексиканской, аргентинской, чилийской, колумбийской креольской музыки, постольку мы вправе говорить о ее общерегиональном единстве. Проблема заключается в том, что это единство либо невозможно, либо чрезвычайно трудно выявить в «чистом виде», свести к каким-то формально фиксируемым внешним проявлениям (метр, лад, мелос и т. п.).
3
Попробуем, однако, взглянуть на поставленную проблему иначе, сосредоточив внимание не на априорно выбранных общих признаках латиноамериканской музыки, а на ее областных своеобразиях.
Нетрудно заметить, что в плане художественной культуры (по крайней мере рассматриваемой на уровне народного творчества) понятия «местное», «областное», «национальное», «общерегиональное» обладают не абсолютным, а относительным характером и находятся между собой в определенной иерархической зависимости. Отдельно взятая национальная культура выступает как областная по отношению к культурному единству более высокого порядка, которому она принадлежит (например, мексиканская или аргентинская культура по отношению к латиноамериканской; испанская или французская — по отношению к западноевропейской; иракская или марокканская — по отношению к арабской и т. п.), и в то же время эта национальная культура имеет значение «общерегиональной» для входящих в нее подразделений иерархически низшего порядка — более или менее отличных друг от друга культурных областей, зон, ареалов, местных, иногда узко локализованных художественных явлений. Поскольку же, как мы видели выше, в Латинской Америке национальные (государственные) границы не совпадают с культурными, постольку отдельные областные своеобразия часто оказываются шире категории, национального и в рамках Латиноамериканского региона могут рассматриваться как межнациональные явления. Именно они и представляют сейчас для нас интерес.
Моделью для наших последующих рассуждений может послужить Испания, отличающаяся, как известно, исключительным многообразием областных музыкальных культур. Как и в Латинской Америке, в Испании есть провинции с чрезвычайно обособленным, замкнутым музыкальным фольклором, не выходящим за пределы своего исконного бытования; такова музыка Басконии и отчасти Каталонии и Галисии, типологическим соответствием которой в Латинской Америке является автохтонная музыкальная культура индейцев Центральных Анд. Параллелью к афро-американской музыке выступает в Испании отмеченный ярким областным своеобразием музыкальный фольклор Андалусии и Леванта, генетически также представляющий собой сплав древних местных музыкальных традиций с ориентальными влияниями (финикийским, карфагенским, греко-византийским, цыганским). Наконец, обладающий чертами стилистического единства музыкальный фольклор обеих Кастилий, Леона и Эстремадуры занимает в Испании такое же доминирующее положение по территориальному распространению, богатству формами и значению в общенациональном масштабе, как креольский музыкальный фольклор в Латинской Америке.
Далее, как и в латиноамериканской музыке в целом (в совокупности индейской, креольской и афро-американской музыки), в народной музыке Пиренейского полуострова также невозможно выделить такие общие стилистические черты, признаки, приметы, которые были бы одинаково свойственны музыке всех испанских провинций, т. е. такие, которые отвечали бы критериям «общерегионального» (в данном случае общеиспанского); чтобы проделать подобную операцию, нам пришлось бы разделить территорию Испании на несколько «музыкальных зон» и рассматривать каждую из них в отдельности, причем, как и в случае с креольской музыкой Латинской Америки, в чем мы только что убедились, результаты оказались бы столь же условными и приблизительными. И однако, в испанской музыке есть нечто, ради чего мы и предприняли этот небольшой экскурс: речь идет о некоторых областных музыкальных формах, которые в силу ряда причин (здесь не место разбирать их) приобрели общенациональное (общеиспанское) значение. Это арагонская хота, кастильское болеро, уроженка Ла-Манчи — сегидилья, фанданго, родина которого — Нижняя Андалусия,— если ограничиться лишь наиболее показательными примерами (мы не включаем сюда романс, как форму общеиспанскую, а не областную по своему происхождению). Хота, сегидилья, фанданго, болеро распространены практически по всему Пиренейскому полуострову и, главное, концентрируют в себе самые типичные черты испанской музыки, т. е. выражают испанский характер в его общенациональном содержании и в форме, максимально свободной от местной (областной) ограниченности. Именно они в первую очередь представляют испанскую музыку как в самой Испании, так и за ее пределами. Достаточно назвать «Арагонскую хоту» и «Воспоминание о летней ночи в Мадриде» Глинки (последняя увертюра написана на темы хоты и сегидильи), «Испанское каприччио» Римского-Корсакова, в котором использована среди Других тема астурийского фанданго, или «Болеро» Равеля. Эти музыкальные формы, каждая из которых первоначально сформировалась как областная в определенное время и в определенном месте, впоследствии возвысились до уровня общенационального. Продолжая нашу параллель с Латинской Америкой, мы вправе назвать эти формы общерегиональными (Испания в данном случае выступает в качестве «региона», а ее исторические провинции — в роли «областей»).
Существуют ли подобные музыкальные формы в Латинской Америке?
Алехо Карпентьер сказал как-то, что латиноамериканская музыка «возвращает обогащенным и в более пышном одеянии то, что она получила когда-то от Старого Света». Называя в качестве примеров сарабанду, чакону (современницы Сервантеса и Лопе де Веги, которые, кстати, оставили свидетельства об этих «танцах- мулатках» родом «из Индий» в своих произведениях) и появившееся несколько позже фанданго, Карпентьер пишет: «Мы не остались в долгу и уже на заре нашей колонизации... подарили Испании свою характерную музыку, которая очень скоро стала универсальной». И далее, имея в виду более близкое к нам время, продолжает: «Хабанера, аргентинское танго, румба, гуарача, болеро (речь идет о кубинском болеро, не имеющем ничего общего с испанским, кроме названия.— П. А.), бразильская самба заполонили мир своими ритмами, своими специфическими инструментами, богатым арсеналом ударных средств, ныне по праву ставших достоянием симфонических оркестров... Не будем забывать, что афро-амери- канские барабаны, индейские мараки, ксилофоны клавес, родившиеся на набережных Гаваны, маримбулы и гуиро наших народных ансамблей... на много лет опередили нынешний набор ударных инструментов, к которым питают такую склонность современные композиторы и без которых было бы невозможно появление такого фундаментального произведения, как „Ионизация" Эдгара Вареза»6.
Карпентьер говорит здесь о тех латиноамериканских музыкальных формах и инструментах, которые либо уже стали универсальными, либо находятся в стадии универсализации. Действительно, даже если мы исключим из его перечня сарабанду и чакону, американское происхождение которых, несмотря на свидетельства Сервантеса и Лопе де Веги и авторитет самого Карпентьера, остается неподтвержденным, а также фанданго, в отношении которого подобная гипотеза признана несостоятельной большинством современных исследователей, это нисколько не поколеблет того очевидного факта, что Латинская Америка действительно создала на протяжении последних полутора столетий ряд универсальных музыкальных ценностей, получивших распространение за пределами Латиноамериканского региона. Являются ли они в то же время общерегиональными в самой Латинской Америке?
Опыт исторических аналогий (а полем такого опыта для Америки всегда служила Европа) показывает, что в сфере народной и популярной музыки та или иная форма, ставшая универсальной, прежде была «общерегиональной», а еще ранее —«национальной», или «областной», «местной», если исходить из принятого нами иерархического соподчинения этих категорий, среди которых «универсальное» является высшей ступенью. Именно таким, в частности, был в большинстве случаев путь универсальных европейских танцев XVI—XIX вв. Так, прежде чем кардинал Ришелье танцевал сарабанду с Анной Австрийской в Париже, сарабанду танцевали мадридские гранды, а еще ранее — кастильские простолюдины. Менуэт, «король танцев и танец королей», как его называли при дворе «короля-солнца» Людовика XIV, и самый популярный танец на ассамблеях Петра I, был первоначально танцем французских крестьян провинции Пуату. Контрданс, быть может «самый универсальный» танец в истории европейской хореографии, породивший бесчисленное множество вариантов в странах обоих полушарий — от кубинской хабанеры до русской кадрили «Барыня», начал свою более чем двухсотлетнюю блистательную карьеру танцем английских поселян, что навсегда закрепилось и в его названии (country-dance — буквально «сельский танец»). Точно так же тирольские крестьяне, кружившиеся парами под непритязательные мелодии местных лендлеров, наигрываемые деревенскими музыкантами на скрипках, кларнетах и контрабасах, положили основание музыке и хореографии танца — фаворита XIX в.— вальса. Подобную же эволюцию проделали в свое время польская мазурка (из Мазовии), чешская полька (из Богемии) и десятки других танцев. Каждый из них первоначально был областным (кастильским, тирольским, мазовским), после становился национальным (французским, испанским, чешским), затем общеевропейским (общерегиональным), и только уже после того, как менуэт или контрданс, польку или мазурку танцевали от Парижа до Санкт-Петербурга, они распространялись за пределы Европы — в Америку и другие заморские колонии Испании, Франции, Англии, т. е. становились универсальными в полном смысле этого слова.
Мы, безусловно, несколько упростили и схематизировали действительную картину, но нам важно было подчеркнуть, что во всех указанных нами примерах непосредственно «предуниверсальным» состоянием танцев (или непременным условием их универсализации?) являлось их общерегиональное распространение. Это дает нам достаточное основание считать, что если хабанера или танго, если определенные латиноамериканские ритмы и музыкальные инструменты, говоря словами Карпентьера, «заполонили мир», то они, следовательно, уже были к тому времени общерегиональными. Под таким углом зрения мы и рассмотрим их, памятуя при этом, что под «общерегиональным» мы будем иметь в виду не только территориальное распространение, но в первую очередь — в соответствии с выбранной нами «испанской моделью»— обобщенное выражение наиболее типических черт латиноамериканской музыки. Другими словами, наша задача заключается в том, чтобы обнаружить в музыке Латинской Америки свои «хоты» и «сегидильи».
Перечень Карпентьера открывает, и не без оснований, хабанера. «Первым мировым бестселлером латиноамериканской музыки,— пишет Карпентьер,— является, очевидно, хабанера „Ты“ кубинца Эдуардо Санчеса де Фуэнтеса (1874—1944), сочиненная им в
Генетически хабанера, как вскользь уже упоминалось, представляет собой кубинскую модификацию европейского, в частности французского, контрданса. В
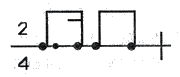
Однако новизна и привлекательность хабанеры заключались отнюдь не в этой ритмоформуле, которую мы встречаем уже в первых контрдансах, изданных в Гаване в
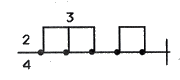
или же более острого синкопированного ее варианта, иногда выступающего в различных комбинациях с первой:

что в сочетании с приведенной выше ритмоформулой аккомпанемента создает оригинальный биритмический эффект одновременного звучания пяти длительностей в мелодии и четырех — в сопровождении в каждом такте. Все эти характерные черты, встречавшиеся и раньше как отдельные частные штрихи, как эпизодические, иногда случайные детали в разных жанрах кубинской музыки, предстают в органичном синтезе и как постоянные жанровые признаки уже в самых ранних дошедших до нас хабанерах, в частности в той же «Голубке» Ирадьера.
Сложившись как типичная местная форма, родившаяся в Гаване и первое время не выходившая за пределы города и его предместий, хабанера уже к концу первой половины прошлого столетия обладала всеми признаками сформировавшегося национального жанра креольской музыки, вобравшего в себя как привнесенные извне, так и характерные местные черты — от гуарачи, кансьон, болеро,— а несколько позже воспринявшего и некоторые ритмические элементы афро-кубинской музыки. Хабанера стала «самым универсальным из всех кубинских музыкальных жанров» (Э. Грене)9 и «первым жанром Кубы, способным выдержать экзамv.- перед лицом всего мира» (А. Карпентьер)10. И не случайно Мануэл Саумель и Игнасио Сервантес (1847—1905), заложившие основы национального стиля в профессиональной кубинской музыке, в равной степени исходили в своем творчестве из жанровых особенностей кубинского контрданса, в том числе хабанеры, как наиболее яркой и характерной из всех его разновидностей.
Важно подчеркнуть, что в полном соответствии с европейской моделью образования и распространения универсальных музыкальных форм хабанера выходит за пределы Кубы только после того, как она полностью сформировалась в качестве национального кубинского жанра. Происходит это приблизительно между 1850 и 1860 гг. Карлос Вега в своем незавершенном исследовании о происхождении аргентинского танго упоминает рецензию в буэнос-айресской газете «Эль насьональ» от 30 июня
Таким образом, уже между 1850 и 1860 гг. хабанеру пели и танцевали от Мексики до Ла-Платы, что дает нам право хотя бы формально, на основе географического критерия, признать eej общерегиональной формой латиноамериканской музыки. Необходимо, однако, сделать существенную оговорку. В Тихоокеанской зоне континента (исключая западное побережье Мексики) хабанера хотя и была известна, т. е. географически распространена, но не закрепилась и не оставила сколько-нибудь заметных следов ни в городской, ни тем более в фольклорной музыке. Сложившийся еще в колониальную эпоху музыкальный климат этой зоны (прежде всего абсолютное господство старых креольских трехдольных метров) не благоприятствовал тому, чтобы хабанера могла пустить здесь прочные корни. Напротив, в Атлантической зоне с ее доминирующей двухдольностью (В латиноамериканском музыкознании и музыкальной фольклористике существуют даже специальные (труднопереводимые на русский язык) термины: ternario criollo occidental и binario criollo oriental, разграничивающие креольскую музыку Тихоокеанской (западной) и Атлантической (восточной) зон по признаку доминирования трехдольных метров в первой и двухдольных — во второй. Характерно, что в Мексике, на территории которой обе зоны смыкаются, помимо основного типа хабанеры на 2/4, существует ее разновидность в размере 6/8.) хабанера стала органической принадлежностью местных музыкальных культур, здесь она активно включилась в происходившие музыкальные процессы, влияя на окружавшие ее музыкальные и хореографические жанры и, в свою очередь, вбирая в себя характерные элементы местной хореографии и музыки. Поэтому есть мексиканская хабанера со своими индивидуальными особенностями и есть аргентинская — со своими. Но принципиально важно при этом, что и та и другая сохраняют свою первоначальную жанровую природу и родовые стилистические признаки, т. е. остаются хабанерой, подобно тому как кастильская или эстремадурская хота, отличаясь от «первородной» арагонской, представляют собой тем не менее хоту, которую сразу признает любой испанец.
Сказанное дает нам достаточное основание считать хабанеру общерегиональной формой латиноамериканской музыки. Как мы видели, географическое распространение в данном случае оказалось ненадежным критерием, но зато хабанера полностью отвечает тем требованиям общерегионального, которые мы сформулировали на основе нашей «испанской модели», а именно: хабанера, как она предстает перед нами во второй половине XIX столетия, заключает в себе ряд типических черт латиноамериканской музыки — мелодических, метроритмических, хореографических, которые почерпнуты ею из разных национальных (местных) источников — кубинского, мексиканского, бразильского, аргентинского и других — и переработаны, усвоены, ассимилированы в процессе внутренней эволюции и территориального распространения. Поэтому в латиноамериканской музыке хабанера может служить наглядным примером областной формы, возвысившейся до уровня общерегионального значения. Для кубинца, мексиканца, бразильца она в равной степени является своей, национальной музыкальной формой; для иностранца хабанера представляет латиноамериканскую музыку в целом.
В нашу задачу не входит специальное рассмотрение соотношения общерегионального и универсального, однако в связи с хабанерой уместно сказать по этому поводу несколько слов.
В строгом смысле слова универсальными следует считать те музыкальные ценности, созданные Латинской Америкой, которые апробированы, признаны и приняты Европой в качестве равноправных элементов ее собственной культуры и которые (это непременное условие!) активно и продолжительно функционируют в ее художественной жизни (аргентинское танго в сфере эстраднобытовой музыки или творчество Вилла-Лобоса в плане академического искусства — классические тому примеры). Сам по себе факт, что та или иная музыкальная форма или какое-то произведение латиноамериканского композитора известны в Европе или где бы то ни было за пределами Латинской Америки, еще совершенно недостаточен, чтобы считать их универсальными. Точно так же мировой триумф «Голубки» Ирадьера или хабанеры «Ты» Санчеса Де Фуэнтеса был триумфом индивидуальных авторских произведений, написанных в жанре хабанеры, но не триумфом хабанеры как жанра (Латиноамериканская музыка создала немало подобных мировых бестселлеров, среди которых самым, пожалуй, прославленным является вальс «Над волнами» («Sobre las olas») мексиканского композитора Хувентино Росаса (1868—1894). В частности, в России его успех был таков, что «Над волнами» часто включали в сборники популярных русских вальсов без указания имени автора и национальной принадлежности произведения. Вальс «Над волнами» звучал в третьем акте чеховского «Вишневого сада» в постановке
И тем не менее у нас есть основания считать хабанеру не только латиноамериканской общерегиональной, но и универсальной музыкальной формой. Подобно тому как Корелли, Вивальди, Бах увековечили и универсализировали в своих творениях сарабанду, Гайди, Моцарт, Бетховен — менуэт и контрданс, Глинка и Чайковский — вальс, Шопен — мазурку, Сметана — польку (мы перечислили только те универсальные европейские танцы, о которых говорили выше), так гений Бизе увековечил и обессмертил в своей опере хабанеру, влив в нее такую жизненную силу и энергию, которые обеспечивают ей непреходящий успех на протяжении уже более столетия. Поэтому как «Кармен», так и «Хабанера» — одна из самых популярных и пленительных страниц оперы — являются неотъемлемой принадлежностью европейской классической музыкальной культуры. Именно это обстоятельство — превращение популярного бытового жанра в жанр композиции профессионального европейского творчества академического плана и классического уровня — позволяет, на наш взгляд, назвать хабанеру одной из универсальных музыкальных форм, созданных Латинской Америкой.
И последнее, на что хотелось бы обратить внимание в связи со всем тем, что было сказано о хабанере.
Как утверждают сами кубинские исследователи, на родине хабанеры два произведения этого жанра одинаково пользуются репутацией «самых популярных», «самых хрестоматийных» и т. п.: «Ты» Санчеса де Фуэнтеса и «Цветок Юмури» («Flor de Yumun») ! Хорхе Анкермана (1877—1941)—другого прославленного мастера кубинской легкой музыки. Сравнение между собой этих двух пьес весьма показательно. Хабанера Анкермана в чисто музыкальном отношении производит значительно более выгодное впечатление. Ее мелодическая линия изящнее, рельефнее и выразительнее; ритмика разнообразнее и прихотливее в своих комбинациях; гармонии много богаче, с многочисленными альтерациями, а тональный план включает ряд модуляционных отклонений; наконец, фортепианная фактура интереснее и оригинальнее по своему решению. Рядом с «Цветком Юмури» хабанера «Ты» и тем более «Голубка» Ирадьера кажутся примитивными, и тем не менее мировая популярность выпала именно на их долю. При всех скидках на непредсказуемые «капризы моды» в этом факте проявляется вполне определенная закономерность. Все подобные мировые бестселлеры в жанрах легкой музыки, как хабанеры «Ты» и «Голубка», как помянутый вальс «Над волнами» Хувентино Росаса, как также триумфально обошедшее мир танго «Е1 choclo» аргентинца Анхеля Вильольдо (1864—1919)—то самое, нотной строчкой из которого В.Маяковский начинает свою поэму «Война и мир»(1915),— все эти бестселлеры обладают одним характерным качеством, а именно некоей «обобщенной усредненностью» от жанровых своеобразий. Это закономерно, ибо для того, чтобы достигнуть мирового успеха, стать универсальными они должны быть достаточно простыми для последующих многократных воспроизведений моделями жанра, некоей суммой типичных и простейших мелодических, ритмических, гармонических и иных формул, допускающих их дальнейшее варьирование, обогащение, развитие и т. д., т. е. дающих возможность сочинять «по образу и подобию» данной пьесы сотни и сотни аналогичных произведений, не выходящих за рамки очерченных моделью основных признаков жанра. Именно в этом и состоит преимущество скромной по своим музыкально-выразительным ресурсам хабанеры Санчеса де Фуэнтеса перед облаченной в гораздо более пышные звуковые одеяния хабанерой Анкермана.
Отсюда следует важный вывод. Если общерегиональные музыкальные формы складываются первоначально только на базе областного своеобразия и вбирают в себя все богатство и многообразие как основополагающих стилистических элементов, так и частных локальных особенностей местной (национальной) музыкальной культуры (мы видели это на примере хабанеры), то универсализация этих форм происходит путем отбора лишь самых общих, «усредненных» примет и черт жанра и неизбежно влечет за собой сглаживание всего подчеркнуто локального, индивидуального, национально-характерного и своеобразного. Другими словами, универсализация — это прежде всего упрощение исходной формы до более или менее стандартной схемы-модели. И лишь затем, при условии длительного и активного функционирования данной формы в качестве универсальной, начинается, сначала в массовом творчестве авторов популярных жанров, а затем под пером композиторов, работающих в сфере серьезной музыки, процесс ее вторичного усложнения и обогащения — уже на базе иных и самых разнообразных национальных источников, вплоть до появления таких написанных по последнему слову композиторской техники утонченно-изысканных опусов, как «Хабанеры» Дебюсси и Равеля или «Танго» Стравинского.
Мы так обстоятельно остановились на хабанере как примере во всех отношениях показательном и типичном для того, чтобы не задерживаться в дальнейшем столь же детально на явлениях и процессах, аналогичных уже рассмотренным, и ограничиться возможно кратким обзором лишь того материала, который может дополнить или уточнить сделанные нами наблюдения. При этом, Хотя мы вовсе не намерены буквально следовать приведенному выше списку Карпентьера, некоторые из перечисленных им музыкальнохореографических жанров и инструментов отвечают нашей задаче — выявлению общерегиональных форм латиноамериканской музыки.
Поэтому удобства ради снова обратимся к этому перечню. Наибольший интерес в нем для нашей темы бесспорно представляет аргентинское танго.
О танго написаны горы литературы — от кратких практических руководств по хореографии до серьезных монографических исследований, а его история напоминает увлекательный детектив — настолько она сложна, запутанна и до сих пор во многом не выяснена, поэтому мы заранее отказываемся от всяких попыток изложить ее на этих страницах, ограничившись лишь самыми необходимыми сведениями. Вместо этого сосредоточим внимание на главном для нас вопросе — является ли аргентинское танго общерегиональной латиноамериканской формой.
Подобно тому как хабанера — уроженка Гаваны, так танго — детище Буэнос-Айреса. Единственное, хотя весьма существенное, различие состоит в том, что хабанера в основных чертах первоначально сформировалась в аристократических и буржуазных салонах и затем вышла на улицы (Хабанера, как мы помним, ведет начало от европейского контрданса, все же без исключения европейские танцы проникали в Латинскую Америку не иначе, как через столичные салоны и лишь потом распространялись в другие города и сельские провинции.), танго же целиком — и в музыке и в хореографии — сложилось в самых плебейских кварталах огромного портового города и в его салоны с «избранным обществом» попало много позже, пройдя весьма тернистый и извилистый путь. Далее, как хабанера впитала в себя мелодические, ритмические и хореографические элементы различных бытовавших тогда на Кубе музыкальных жанров, национальных и привнесенных извне, так в формировании танго участвовали практически все песенные и танцевальные формы — местные и инонациональные, новые и старые, модные и уже сходившие со сцены, какие только существовали на Ла-Плате в последней трети прошлого столетия. Среди них главными источниками, давшими при слиянии начало танго, были аргентинская милонга, кубинская хабанера и андалусийское танго, а также хореография таких европейских салонных парных танцев, как вальс, полька и мазурка.
История танго резко делится на два периода, настолько несхожих между собой, что правильнее было бы говорить об истории двух разных танцев, хотя и носящих одно имя и несмотря на то, что первый породил второй,— мы имеем в виду креольское танго, или танго портеньо (т. е. буэнос-айресское танго), и так называемое аргентинское танго. Первое типологически соответствует хабанере от ее образования как местной формы до превращения в национальный кубинский песенно-хореографический жанр; второе связано с мировым распространением танго в качестве универсального танца.
Как мы сказали, главными источниками танго явились милонга, хабанера и андалусийское танго. Милонга — испанская песня весьма древнего происхождения, известная в Южной Америке под разными названиями с колониальных времен,— в Аргентине издавна
была излюбленной песенной формой гаучо и профессиональных народных певцов-пайядоров сельских провинций Ла-Платы. В Буэнос-Айрес милонга попала в 1860-х годах и была с энтузиазмом принята^ населением городских предместий и окраин. Хабанеру занесли в аргентинскую столицу испанские труппы сарсуэлы по крайней мере десятилетием раньше (вспомним «кубинское танго» в пьесе «Хижина дяди Тома», поставленной в
Если говорить о музыке креольского танго, то «самое первое» танго (как и «самая первая» хабанера) навсегда останется неизвестным, поскольку процесс его формирования был медленным, сложным и происходил незаметно. Во всех подобных случаях наметить какой-то разграничительный рубеж практически невозможно. Известно, однако, что уже в начале 1890-х годов популярность танго в Буэнос-Айресе была исключительной. «Улицы города были полны мелодиями танго,— пишет Тулио Карелья.— Музыканты играли их на слух, по памяти. Первые танго не записывались, да уличные Музыканты и не знали нотной грамоты. Они просто импровизировали или воспроизводили то, что слышали вокруг. Если мелодия нравилась, ее повторяли. Если очень нравилась, она оставалась в репертуаре. Так же возникали и куплеты, острые, злободневные, связанные, как правило, с реальными происшествиями и конкретными лицами. Куплеты пели, они становились общеизвестными...
Их исполняли бродячие шарманщики, уличные музыканты, объединявшиеся в маленькие инструментальные ансамбли (гитара, скрипка, флейта, аккордеон). Кондукторы конок и трамваев насвистывали мелодии танго на своих рожках. В домах интеллигенции молодежь украдкой разучивала новые песенки на фортепиано... Так танго прокладывало себе путь»15.
В музыке и текстах креольского танго находили выражение самые характерные черты жизни и быта огромного города — шумного порта, оживленных центральных улиц, специфическая атмосфера его плебейских кварталов с их увеселительными заведениями. «Танго — это фольклорная песня Буэнос-Айреса,— писал один из авторов,— поскольку оно непроизвольно, но вполне определенно выражает что-то от самого духа города»16. У поэта Мигеля Камино мы находим, в частности, такие любопытные «анкетные данные» танго:
Место рождения — Корралес Вьехос*,
Время — восьмидесятый год.
Матерью его была милонга,
А отцом — компадрито из пригорода.
Его воспитывал рожок Кондуктора трамвая,
А дуэли на ножах в переулках
Учили его танцевать.
* - Название одного из старых кварталов Буэнос-Айреса, ныне Парк патрисиос.
В последнем стихе этого отрывка речь идет о поворотном событии в истории танго — превращении его из сольной песни в парный танец с принципиально новой хореографией — той самой, которая обеспечила танго мировой триумф (По принятой классификации танго относится к так называемым танцам «абраса- дас» (от abrazar — обнимать), в которых партнеры танцуют обнявшись, как в большинстве танцев XX столетия. Танго хронологически явилось первым танцем этого нового хореографического типа; за ним уже последовали машиши (из Бразилии), кэк-уок, уан-степ, фокстрот (из США) и др.). Музыка танго, точнее, тот тип музыки, который дал ему начало, имеет собственную очень длинную историю, уходящую в глубь колониальных времен, и слово «танго» существовало еще до путешествия Колумба, но, как справедливо замечает К. Вега, «не было самого танго до тех пор, пока музыку и название не объединила хореография, определившая танец как полное и законченное в себе единство»17. Оформление этой новой хореографии, как и музыки, было длительным процессом, занявшим не менее двух десятилетий (1870— 1890-е годы). К. Вега, автор лучшего из имеющихся на сегодня исследований об аргентинском танго, так описывает этот процесс:
«Раскаленная хореографическая атмосфера царит в увеселительных заведениях, в „академиях танца“ и на окраинах Буэнос- Айреса. Здесь стремятся к оригинальности, здесь мобилизуются все резервы, оттачиваются манеры в борьбе за отстаивание собственной индивидуальности, здесь постепенно формируется и человек из народа, и распутный аристократ. Здесь все танцы исполняют в одном стиле...
Каждый хотел первенствовать. И каждый участвовал в ночных танцевальных состязаниях, где изобретательность подстегивалась страстным желанием победить. Все танцы тогдашнего репертуара решительно меняли здесь свою первоначальную хореографию. Полька, мазурка, хабанера исполнялись с идентичными „кебрадас“, „сентадас“, „корридас“ (различные фигуры танцев.— Я. А.) и т.п. Можно смело утверждать, что и плебеи и аристократы Буэнос-Айреса предприняли тогда с точки зрения хореографических форм попытку создания самого оригинального и жизнеспособного произведения за последнее столетие»18.
Естественно, что в этих танцевальных баталиях участвовало и танго, и именно там оно и приобрело новую хореографию. Это произошло примерно в середине 1890-х годов. Спустя же всего несколько лет креольское танго уже танцевали в самых отдаленных провинциях Аргентины.
Если музыка креольского танго многое вобрала в себя из инонациональных источников, то его хореография — целиком аргентинская. Создал ее Буэнос-Айрес, но в процессе распространения креольского танго по стране каждая провинция вносила в нее свою лепту. Достаточно сказать, что одна только фигура креольского танго «полумесяц» имела местные варианты, носившие наименования, производные от названий аргентинских провинций Катамарка, Кордова, Мендоса, Сальта, Ла-Риоха, Жужуй, Энтре-Риос и Сантьяго-дель-Эстеро. Трудно найти лучшее подтверждение общенациональной сущности креольского танго.
До настоящего момента креольское танго, несмотря на все различие эпох, местной музыкально-хореографической атмосферы, специфических локальных деталей и т. п., в основных чертах повторяло путь, пройденный в свое время хабанерой. Однако дальнейшая судьба креольского танго сложилась совсем иначе. Если хабанера, достигнув стадии национального кубинского жанра, сразу же распространилась на большей части Латиноамериканского континента, то креольское танго никогда не переступало национальных границ, т. е. не стало общерегиональной формой. Более того, хотя в создании креольского танго участвовали, как мы помним, «и плебеи и аристократы Буэнос-Айреса», места и заведения, в которых формировалось и первоначально культивировалось танго, пользовались настолько дурной репутацией, что танго был абсолютно закрыт доступ в аристократические и буржуазные салоны, в Дома респектабельных семейств и вообще в «порядочное общество» аргентинской столицы. Единственной сферой, где процветало креольское танго и как танец, и как песня в период своей наибольшей Популярности (1900—1910 гг.), были городские танцзалы, кафе, Рестораны, кинотеатры, где его исполняли вокально-инструментальные дуэты, трио и небольшие оркестры. Между тем именно в эти годы выдвигается многочисленная плеяда местных авторов, преимущественно из числа музыкантов, обслуживающих запросы дансингов и ресторанов, и просто любителей, сочиняющих танго. Наиболее известные из них — Анхель Вильольдо, первое исполнение знаменитого «Е1 choclo» которого 3 ноября
Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая судьба креольского танго, если бы в
Увлечение танго принимало подчас анекдотические формы. В Париже, например, открылись курительные салоны под вывеской «Танго»; в моду вошел ярко-оранжевый цвет — также «танго»; парижские костюмеры немедленно изобрели особый фасон одежды, которому присвоили имя нового танца. Танго танцевали даже в Ватикане; это вызвало немалую сумятицу в клерикальных кругах, но папа Пий X заявил, что танго вполне пристойный танец, против которого нельзя что-либо возразить.
Итак, Париж безоговорочно принял креольское танго, привел в надлежащий порядок его «провинциальную внешность», обучил «хорошим манерам», снабдил соответствующими хореографическими руководствами и, присвоив ему имя «аргентинское танго», выпустил в «большой свет». Менее двух лет понадобилось аргентинскому танго, чтобы с парижской визой в кармане покорить Европу от Лондона до Стамбула и от Рима до Петербурга, и еще год-другой — чтобы завоевать весь мир, включая и Латинскую Америку. Только теперь ( в
Поскольку дальнейшая история танго общеизвестна, можно подвести итоги. Как мы видели, креольское танго даже в период своего расцвета не вышло за национальные границы и в пределах Латиноамериканского региона осталось областной формой. Напротив, аргентинское танго, которое, став универсальным танцем, охватило всю Латинскую Америку и даже превратилось в своего рода ее музыкальную эмблему, обладает, казалось бы, всеми признаками общерегиональной формы. И тем не менее, чтобы такое утверждение полностью отвечало принятым нами критериям, необходимо выяснить один немаловажный вопрос.
Креольское танго — создание Латинской Америки; аргентинское танго — продукт парижских салонов и детище парижских хореографов. Превращение креольского танго в салонный бальный танец на хореографической и музыкальной почве космополитического Парижа 1910-х годов в корне изменило его природу. Прежде всего это коснулось текстов, которые сошли на положение дополнительных, а в дальнейшем и необязательных придатков. Мелодическая линия, не связанная уже с привычным делением на строфы, изменила и свою структуру, и интонационный характер (в частности, стал преобладать «чувствительный» минор вместо прежнего мажора), и ритмический строй, сохранив только двухдольный метр. Факторами, определяющими дальнейшую эволюцию танго, стали в первую очередь вкусы и потребности достаточно узкой буржуазной верхушки и средних городских слоев. Композиторы, обслуживающие музыкальные запросы салонов и фирм, издающих грампластинки, стремясь быть модными, все дальше и дальше отходили от первоначальных моделей. Другими словами, став универсальным танцем, аргентинское танго утратило свою национальность. Это подчеркивают и сами аргентинские исследователи. «Каждая страна Европы производит свои бесчисленные танго, ничего общего не имеющие с теми, которые им дала Аргентина»,— говорит Т. Карелья20. То же утверждает и К. Вега: «Первые годы танго (креольского.— П. А.) прошли под знаком самых мрачных прогнозов,— пишет он.— Его немедленную смерть предрекали на все лады. Сегодня, зная, какой триумф выпал на долю танго, мы улыбаемся, вспоминая эти предсказания. А между тем смеяться тут не над чем. Если танго — тот прежний танец, с живой, нервно пульсирующей музыкой, с ясным, четко акцентированным ритмом, с гибкими движениями танцоров, то прогнозы сбылись: в современном танго (написано в
И действительно, если мы сравним, скажем, общеизвестное бальное танго из кинофильма «Петер» (1934) с первыми креольскими танго аргентинских авторов, например с написанным в
И все же мы решительно относим аргентинское танго к национальным общерегиональным музыкальным формам Латинской Америки. Во-первых, мы считаем, что при определении национальной принадлежности какого-либо музыкального явления в таких спорных ситуациях, как с аргентинским танго, приоритет должен принадлежать генетически исходной форме, в данном случае креольскому танго, на базе которого сложилось аргентинское. Во-вторых (и это самое существенное), аргентинское танго прежде всего танец, главное же в танце не музыка и тем более не сопровождающие его тексты, а хореография. Как бы далеко ни ушло в своей эволюции аргентинское танго, оно сохранило принципиальный хореографический тип креольского, т. е. тот, который целиком является созданием национальной аргентинской музыкальнохореографической культуры конца прошлого столетия. Уже одного этого обстоятельства, на наш взгляд, достаточно, чтобы считать аргентинское танго не только общерегиональной формой, но и общенациональным достоянием Латинской Америки.
Хабанера и танго генетически принадлежат креольской музыкальной культуре (хотя сфера их бытования в Латинской Америке в качестве общерегиональных форм шире каких бы то ни было национальных и этнических границ). Еще по крайней мере одна креольская музыкальная форма может быть отнесена к группе общерегиональных на основании принятых нами критериев. Это корридо. Выскажем коротко соображения, позволяющие сделать такой вывод.
Исторически корридо восходит к испанскому романсу и сохраняет его жанровую природу песенного повествования, рассказа о событиях («корридо — жанр эпико-лиро-повествовательный» по определению В. Мендосы22). Свою наиболее стилистически завершенную форму, ставшую эталоном жанра, корридо приобрело в Мексике в годы буржуазно-демократической революции 1910— 1917 гг. Однако, что важно для нас, корридо и аналогичные ему песенно-повествовательные жанры известны и в других странах Латиноамериканского региона.
Испанский романс, который пережил в эпоху завоевания Америки непродолжительный период расцвета, обусловленный как чрезвычайно еще сильной живой традицией романса в самой Испании, так и эпическим характером конкисты, в дальнейшем, после трех столетий «скрытого», «подспудного» существования в глубинных слоях латиноамериканского фольклора, обнаружил тенденцию к возрождению во время войны испанских колоний за независимость. При этом, однако, возродилась не столько форма романса, сколько его общественно-информативная функция, которая находила для своего выражения новые, уже сложившиеся местные музыкально-поэтические формы. Так, в Аргентине и Уругвае такой формой явилось сьелито, строфами которого певцы-пайядоры воспевали борцов за свободу и рассказывали о ходе военной кампании. В Чили народные рапсоды — уасо использовали с той же целью стихотворную метрику романсильо и мелодии чилийских тонад. В странах Карибского бассейна преимущественное предпочтение получила децима. В Мексике наряду с первыми спорадическими образцами корридо роль устной «общественно-политической прессы» выполняла валона, включавшая в себя различные стихотворные формы — от простой коплы до глоссированной децимы. Накоцец, кое-где, например в Венесуэле и отчасти Центральной Америке, старый испанский романс возрождается под своим собственным названием и в традиционной форме, хотя, разумеется, с новым (местным) содержанием.
Нигде, однако, в Латинской Америке в эпоху войны за независимость эти жанры не возвысились до общерегионального значения и в большинстве своем после сравнительно кратковременного расцвета отошли на дальний план. Только в Мексике песенно-повествовательная традиция, начавшаяся вместе с «Кличем Долорес», оказалась достаточно жизнеспособной и, поддержанная необычайно бурным общественно-политическим развитием страны на протяжении всего XIX в., продлилась до начала нашего столетия, когда революция вдохнула в нее новую жизнь и дала новое содержание, а грандиозный размах всенародной вооруженной борьбы, развернувшейся на громадной территории от Калифорнии до Юкатана, придал корридо подлинно национальные черты и окончательно сформировал его как жанр. Можно без преувеличения сказать, что в народном музыкально-поэтическом творчестве Латинской Америки на протяжении последнего столетия не было жанра, аналогичного по своей функции мексиканскому корридо и одновременно сопоставимого с ним по уровню поэтического вдохновения, общественной значимости, количеству созданного, широте распространения в массах и длительности существования. Порождение национальной Действительности, мексиканские корридо отразили ее с такой полнотой и жизненной достоверностью, как никакой другой вид народной поэзии и литературы, что дало право В. Мендосе назвать корридо «исторической и поэтической эпопеей Мексики»23. Более того, корридо активно участвовало в становлении современной национальной композиторской школы Мексики, вдохновляя и питая своими Живительными соками творчество ее основоположников и создателей — Сильвестре Ревуэльтаса (1899—1940) и Карлоса Чавеса (1899—1979). Мелодическими моделями корридо навеяны многие страницы симфонических поэм Ревуэльтаса «Куаунауак» (1930), «Дороги» (1934), его музыка к кинофильмам «Рыболовные сети» (1935) и «Мы идем с Панчо Вильей» (1936); в форме корридо написана Ревуэльтасом (в содружестве с поэтом Пла-и-Бельтраном) песня «Испания к славе шагает» (1937), ставшая гимном мексиканских бойцов-добровольцев, сражавшихся на стороне республиканской Испании. Чавес использовал характерные интонационные и метроритмические элементы корридо в оркестровой пьесе «Песни Мексики» (1933), а его знаменитые кантаты для хора с оркестром «Солнце» (1934, на стихи поэта-рабочего Карлоса Гутьерреса Круса) и «Призывы» (1934, известны также под названиями «Пролетарская симфония» и «Корридо о революции») созданы на музыкальной и поэтической основе подлинных народных корридо («Призывы» Чавеса написаны на текст широко популярного народного корридо «О надеждах отчизны». Говоря о роли корридо в формировании профессионального национального искусства современной Мексики, уместно напомнить, что это же самое корридо Диего Ривера сделал содержанием стенных росписей в здании Министерства просвещения в Мехико, выполненных художником в 1923— 1929 гг.).
Всего этого, однако, было бы недостаточно для признания корридо общерегиональной формой, если бы, как мы сказали выше, в ряде стран региона не существовали свои песенно-повествовательные жанры, иногда совпадающие по форме с мексиканским корридо или очень к нему близкие, иногда выступающие в ином музыкальном и поэтическом обличье, но выполняющие ту же общественную функцию «информации о событиях», что и корридо Мексики. Приведем несколько примеров.
В Венесуэле записаны и опубликованы исторические корридо, отражающие политические и иные важные события в стране начиная примерно с последней трети XIX в. В этих корридо фигурируют, в частности, сменявшие друг друга в президентском кресле Бланко, Креспо, Кастро, Гомес, а также многочисленные провинциальные каудильо — генералы и полковники, рвущиеся к власти. Некоторые из этих корридо зафиксированы в различных вариантах в разных местах и в разное время, что указывает на их широкое распространение в народе (таково, например, популярное корридо «О Мочо Эрнандесе»). Особенно любопытна серия корридо, записанных около 80 лет назад от уроженца деревни Эль-Ирансо в штате Тачира 60-летнего Раймундо Виваса и изданных отдельной брошюрой в
В Бразилии в роли корридо выступают различные музыкальнопоэтические жанры — собственно романс, дезафиу, мода. Последней О. Алваренга дает следующую характеристику, не оставляющую сомнений относительно ее общественной функции: «По содержанию и характеру тексты моды в абсолютном большинстве случаев представляют собой настоящие романсы, повествующие о запечатленных в народной памяти событиях, о всевозможных случаях, когда-то и где-то имевших место, или описывающие в сатирическом тоне некоторые обычаи и нравы, а также забавные происшествия»26. Ясно, что мода — бразильский эквивалент мексиканского корридо.
К числу стран, где, как в Мексике, песенно-повествовательная традиция живет со времен войны за независимость, принадлежат Аргентина и Чили. В Аргентине хранителями этой традиции издавна были пайядоры — профессиональные певцы и поэты из среды гау- чо, о которых Доминго Фаустино Сармьенто писал: «Гаучо-певец — тот же бард, поэт, трубадур средних веков, на той же сцене, в гуще борьбы городов с феодалами поместий, между жизнью уходящей и жизнью наступающей. Певец идет от одного селения к другому, ночуя где придется, слагая песни о героях Пампы, преследуемых правосудием, о слезах бедной вдовы, у которой индейцы похитили детей в недавнем набеге, о поражении и смерти отважного Рауча, о падении Факундо Кироги и о судьбе, выпавшей Сантосу Пересу. Он бескорыстно выполняет ту же работу летописца, бытописателя, историка, биографа, что и бард средних веков. Его песни будут со временем собраны, как ценнейшие документы, которые использует будущий историк...»27
Сармьенто писал так о пайядорах середины прошлого века. Столетием позже (в
Думается, приведенных примеров достаточно для подтверждения нашего тезиса об общерегиональном значении корридо. Все перечисленные нами жанры, несмотря на разные названия (хотя, как мы видели, наименование «корридо», помимо Мексики, бытует и в ряде других стран), несмотря на их различное музыкальное оформление (естественно, что в каждой стране с этой целью используются местные музыкальные ресурсы), — все эти жанры одинаково восходят к традиции старинного испанского и португальского романса, имеют в большинстве случаев идентичную или сходную стихотворную структуру, самое же главное, обладают общей жанровой природой: выполняют одну и ту же общественную функцию информации об исторических событиях как прошлого, так и настоящего (исторических в широком смысле слова — как событиях, имевших место в реальной действительности независимо от масштабов и значения самих событий). В сущности, мексиканское корридо, корридо Венесуэлы и Никарагуа, бразильская мода, сифра аргентинских пайядоров, романсы и децимы чилийских уасо — одно и то же. И хотя мы не располагаем данными по всему Латиноамериканскому региону, поскольку далеко не всюду были проведены соответствующие изыскания и собран необходимый материал, можно, не боясь ошибиться, утверждать на основании некоторых общих закономерностей и аналогий, что в народном песенном творчестве всех без исключения стран Латинской Америки либо существуют (пусть ограниченно), либо существовали в более или менее недалеком прошлом повествовательные жанры, аналогичные по своей функции корридо.
Мы уже отмечали, что общерегиональные формы проявляют тенденцию к географическому распространению за пределы региона. Корридо не составляет в этом отношении исключения. Мексиканские корридо перешли северную границу республики (Аурелио Маседонио Эспиноса записал в 1940-х годах ряд мексиканских корридо на территории Соединенных Штатов30) и даже пересекли Атлантику. Многие из них звучали в республиканской Испании во время гражданской войны 1936—1939 гг., влившись в так называемый новый испанский романсеро. Известен «Романс об Антонио Коле», молодом солдате-республиканце, павшем смертью храбрых в дни героической обороны Мадрида в ноябре
Теперь, по-прежнему исходя из нашего критерия общерегионального (обобщенное выражение типичных черт латиноамериканской музыки), бросим хотя бы беглый взгляд на афро-американскую и индейскую музыку.
Когда А. Карпентьер говорит, что «...румба, гуарача, болеро, (бразильская самба заполонили мир своими ритмами, своими специфическими инструментами, богатым арсеналом ударных средств, ныне по праву ставших достоянием симфонических оркестров», он безусловно прав. Точно так же прав был и К. Вега, писавший в свое время (1950-е годы) о том, что «весь XX век будет, по всей видимости, веком афро-американских стилей в музыке и танцах Западного полушария». (Сегодня мы могли бы добавить, что африканизированные музыкальные и хореографические стили захлестнули и Восточное полушарие, во всяком случае Европу.) Однако такие категории, как «ритм», «стиль», взятые сами по себе, вне конкретно звучащей музыки, которую они оформляют и которой придают тот или иной характер, ту или иную манеру исполнения, лежат за пределами нашей темы (выше мы уже говорили об этом при рассмотрении трехдольных метров креольской музыки). Некоторые афро-американские музыкальные инструменты находят применение в симфонических оркестрах (преимущественно латиноамериканских) и в сочинениях, имеющих целью продемонстрировать «местный колорит», однако в народной музыкальной практике Латинской Америки эти инструменты, и прежде всего самые типичные и распространенные из них — афро-американские тамборы (барабаны), являются исключительно достоянием негров и мулатов. Тем не менее некоторые жанры афро-американской музыки заслуживают внимания в плане нашего исследования. Рассмотрим румбу.
Румба, как и корридо,— типичный для народной латиноамериканской музыки пример областной формы. Широко распространенное мнение о кубинском происхождении (и, следовательно, о кубинской национальности) румбы связано с тем, что в города Соединенных Штатов и Европы румба была занесена с Кубы, где сложилась ее окончательная современная форма. В действительности же родиной румбы следует считать всю Антильскую зону, включая Карибское побережье материка Южной Америки. На этой обширной территории издавна (по крайней мере уже в XVIII в.) было известно не менее двадцати различных названий танцев, которые со временем стали одинаково именоваться румбами.
Дать словесную характеристику настоящей народной румбе практически невозможно. Любая музыка в двухдольном метре, с остросинкопированным ритмом и в умеренно быстром темпе пригодна для румбы. Румбу танцуют и вообще без музыки в европейском понимании этого слова — под один лишь ритм, выстукиваемый на любых ударных инструментах, имеющихся под рукой, вплоть до обыкновенного деревянного ящика или пустых бутылок. Также нет в румбе и какой-либо постоянной фиксированной хореографии — каждый танцор выполняет любые движения и фигуры по своему вкусу. Правильнее было бы сказать, что подлинная афроамериканская румба не столько танец, сколько некое экстатическое состояние, выражаемое средствами чрезвычайно примитивной хореографии. Однако именно в этой кажущейся примитивности секрет Удивительной жизненности и популярности румбы. За свою долгую историю румба вобрала в себя все самое характерное и существенное из афро-американской музыки и хореографии, ассимилировала переработала, отбросила второстепенное и свела все к минимальному числу простейших музыкальных и хореографических элементов. Если вспомнить, что выше мы говорили об универсализации музыкальных жанров как процессе упрощения исходных форм до схематических формул-моделей, то можно назвать румбу универсальной афро-американской формой, предельно простой и в то же время суммирующей в себе всю породившую ее музыкальную и хореографическую культуру негров Латинской Америки. Не случайно румбу на континенте танцуют всюду, где есть негры и мулаты, причем не имеет никакого значения, как называют ее сами танцоры. В сущности, старый бразильский батуке и родившаяся из него самба (сельская самба и самба городских окраин, так называемая самба фавел — samba de morro) суть не что иное, как та же румба; различия сводятся к второстепенным деталям, сам же дух танцев — один и тот же.
Вопрос о том, можно ли считать румбу общерегиональной формой, должен быть, на наш взгляд, решен однозначно и положительно. Если хабанера отразила типичные черты креольской музыки прошлого столетия, то точно так же румба сконцентрировала в себе все самое существенное, что только заключалось в афроамериканской музыке, а превращение румбы в 1920-х годах в салонный и эстрадный танец распространило сферу ее культивирования и на креольское население Кубы и других стран Латино-американского региона, сломав при этом, как и в случае с танго, сословные перегородки. Великолепным памятником румбе как общенациональному достоянию и негров, и мулатов, и креолов Кубы явилась знаменитая «Румба» классика кубинской музыки Алехандро Гарсиа Катурлы (1906—1940)— монументальное оркестровое произведение, исполненное стихийной мощи и огненного темперамента, в котором, по словам Эдгардо Мартина, «величие и мощь народа, его ликующая песнь, исторгнутая из сокровенных глубин души, его экстатический танец». Можно, не боясь преувеличения, сказать, что для утверждения значения румбы в масштабе Латинской Америки «Румба» Катурлы сыграла не меньшую роль, чем в свое время «Хабанера» Бизе для европейского признания ее кубинской прародительницы.
Что касается индейской музыки, то ей принадлежит вклад в латиноамериканскую и мировую музыку, общерегиональное и универсальное значение которого равно не подлежит никакому сомнению и не нуждается в особой аргументации. Речь идет о скромном и непритязательном на первый взгляд музыкальном инструменте — погремушке мараке. Марака под разными названиями распространена по всему континенту, ею пользуются индейцы, негры и креолы, она незаменима в эстрадных оркестрах и различных инструментальных ансамблях, исполняющих фольклорную и популярную музыку. В некоторых странах региона, например в Венесуэле, марака является в полном смысле слова национальным инстру ментом, о чем красноречиво свидетельствует Хосе Антонио Кальканьо. «Похоже, что мараки превратились в самый характерный из всех наших креддьских музыкальных инструментов,— говорит он.— Похоже, что они обладают особым даром вызывать в нас самый пылкий энтузиазм, и никакой народный праздник не будет полным и не доставит нам истинного удовольствия, если на нем не будут звучать мараки. Можно даже сказать, что цара марак (при игре музыкант пользуется, как правило, двумя мараками.— П. А.) — это самое венесуэльское, что есть в Венесуэле...» «Мараки,— как бы подытоживает А. Карпентьер,— стали столь универсальным американским инструментом... что на них даже играют ангелы в многочисленных изображениях „небесных концертов”, изваянных умельцами колониальных времен в барочных храмах нашего континента».
Но марака не только общерегиональный, но и универсальный инструмент, поскольку она прочно вошла в состав европейских (шире — мировых) симфонических оркестров, исполняющих серьезную музыку академического плана. Д. Рогаль-Левицкий в своем капитальном четырехтомном труде «Современный оркестр» посвятил маракам отдельную главу, специально отметив, что они оказались удивительно созвучными современному оркестру. Гаспаре Спонтини был первым европейским композитором, обратившимся к маракам: он включал их в партитуру своей оперы «Эрнан Кортес, или Завоевание Мексики» (1809) для придания местного колорита мексиканскому танцу. Не лишним будет добавить, что среди русских композиторов-классиков XX в. первым оценил выразительные возможности марак Сергей Прокофьев, с необыкновенным вкусом и тактом использовавший их в очаровательном «Танце антильских девушек» в балете «Ромео и Джульетта» (1936).
4
Мы рассмотрели лишь несколько конкретных явлений музыкальной культуры Латинской Америки, претендующих на роль общерегиональных в том понимании термина, какое мы придали ему в ходе наших поисков, стремясь при этом обнаружить подобные явления во всех этногенетических сферах латиноамериканской музыки — креольской, афро-американской и индейской. Безусловно, число их можно было бы увеличить. В частности, специального внимания в интересующем нас аспекте заслуживает такое имеющее огромное общественно-политическое и культурное значение явление, как «Новая песня» (Cancion nueva)—родившееся в 1960-х годах и вскоре охватившее практически весь регион массовое Движение поэтов-песенников, композиторов, исполнителей, фольклористов, объединяющее в своих рядах представителей всех этнических и национальных групп Латинской Америки и ставящее целью как пропаганду с помощью песни и музыки передовых НоАитических идей, так и возрождение и сохранение национального Музыкального фольклора. Примечательная особенность движения «Новой песни»— сознательное стремление к синтезу древних, традиционных и современных элементов латиноамериканской музыки, к сочетанию в музыкально-исполнительской практике креольского, индейского и афро-американского начал. Так, одна из самых известных групп «Новой песни»— чилийский вокально-инструментальный ансамбль «Инти-Ильимани» имеет в своем репертуаре как старые фольклорные, так и современные авторские песни, исполняет креольскую и индейскую музыку, а среди используемых участниками ансамбля музыкальных инструментов есть креольские (гитара, боливийский чаранго, колумбийский типле, венесуэльский куатро), индейские (кена, флейта Пана, бомбо, мараки) и даже афро-американские (клавес, гуиро). Можно было бы рассмотреть общерегиональное распространение уже в послевоенный период ряда новых кубинских музыкальных жанров, как мамбо и ча-ча-ча, современная мексиканская лирическая кансьон, проникшая даже в андские страны, и некоторые другие песенные и танцевальные жанры.
Мы, однако, не ставили целью ни нарисовать полную картину общерегиональных и областных форм латиноамериканской музыки, ни предложить какую-либо законченную концепцию их образования и взаимоотношений, с самого начала оговорив, что вынуждены ограничиться рассмотрением лишь некоторых, кажущихся намнаиболее существенными, аспектов темы, причем в порядке постановки вопроса, т. е. рассмотрением лишь в «первом приближении», нащупывая пути к решению тех или иных вопросов в самом процессе их анализа. Здесь многое зависит от заранее выбранного подхода, точки зрения, от принятых критериев и договоренности относительно содержания, вкладываемого в термины «общерегиональное», «национальное», «областное» и т. п. Выше мы рассмотрели понятие «общерегиональное» в применении к народной и популярной бытовой музыке Латинской Америки с двух разных точек зрения и исходя из разных критериев: сначала как сумму существенных и характерных признаков, проявляющихся постоянно и повсеместно (трехдольные метры, полиметрия, мажоро-минор), и затем как обобщенное выражение в конкретной единичной форме (хабанера, танго) типических черт латино-американской музыки. Первый путь, несмотря на то что он производит впечатление самого простого и естественного, не дал достаточно удовлетворительных результатов; второй оказался более плодотворным. Однако мы отнюдь не убеждены, что не может быть найден третий, еще более перспективный подход, более соответствующий такой сложной, составленной из множества разнородных компонентов модели, как латиноамериканская музыка.
Среди тех общерегиональных форм латиноамериканской музыки, которые были рассмотрены или упомянуты в статье, одни уже принадлежат истории, как хабанера, другие сходят со сцены на наших глазах, как аргентинское танго (хотя в последние годы в Латинской Америке наблюдается некоторое — отчасти искусстве но вызванное — его возрождение), третьи активно функционируют и не выказывают признаков упадка; наконец, есть и четвертые — те которые незаметно для нас формируются и, может быть, завтра появятся на поверхности музыкальной жизни, а послезавтра мы станем свидетелями их мирового триумфа. В связи с этим выскажем некоторые соображения о тех тенденциях в сфере образования и динамики общерегиональных форм в латиноамериканской музыке, которые кажутся нам сегодня преобладающими и которые должны сохраниться по крайней мере в ближайшем будущем.
Выше мы отмечали относительный характер содержания таких категорий, как «местное», «национальное», «областное», «общерегиональное», в той «иерархической соподчиненности», которая наблюдается между ними. Эта относительность обусловлена динамичностью, исторической подвижностью названных категорий, их постоянным взаимопроникновением и переходом одной категории в другую. Переходы эти не прямолинейны и разнонаправленны. С одной стороны, как мы видели, местные формы становятся национальными, областные превращаются в общерегиональные и в ряде случаев пересекают границы региона; с другой — общерегиональные формы со временем теряют свое значение и локализуются в одном или нескольких сравнительно ограниченных районах (хабанера на Кубе и отчасти в Мексике, танго на Ла-Плате), областные и национальные формы выходят из употребления, находя последнее прибежище в глухих провинциях (старинные креольские танцы-пикарески Тихоокеанской зоны), и т. д. Происходит как бы постоянный круговорот — возникновение, распространение, расцвет, увядание, возврат к исходному ареалу или полное исчезновение. Законы, управляющие этим движением (если таковые существуют), нам неизвестны, однако, исходя из некоторого опыта наблюдений, мы можем считать закономерностью, что любая местная музыкальная форма (песня, танец), возникнув однажды в одном месте, обладает внутренней тенденцией к распространению как по горизонтали (территориально, географически), так и по вертикали (в социальном аспекте), т. е. обладает тенденцией к превращению в национальную или областную форму (хабанера и танго — классические тому примеры из числа рассмотренных). В свою очередь, общерегиональные формы, как мы помним, складываются именно и только на базе областных и национальных своеобразий. Но существует ли аналогичная тенденция к превращению национальных и областных форм в общерегиональные — вопрос, на который гораздо труднее дать однозначный ответ. По всей видимости, главную роль здесь играет избирательная (ассимилирующая) способность иной музыкальной среды. Местная (локальная) музыкальная форма потенциально легко распространяется в пределах национальных (или областных) границ, поскольку она возникает на сложившейся национальной почве и, следовательно, с самого начала обладает (не может не обладать) национальной определенностью; она еще не «общенациональная», но уже «национальная». Для того же, чтобы какая-либо музыкальная форма пересекла границы «своего» национального ареала и укоренилась в других местах, с отличным «музыкальным климатом», т. е. стала общерегиональной формой, требуются особо благоприятные условия. По крайней мере одно из этих условий — и, пожалуй, самое существенное — мы, исходя из всего предыдущего изложения, можем назвать: необходимо, чтобы данная форма концентрировала в себе максимум типических признаков одновременно как собственной национальной музыкальной среды, так и латиноамериканской музыки в целом. Следовательно, в чисто теоретическом аспекте можно утверждать, что, чем богаче в данный исторический момент музыка региона разнообразными по своим характеристикам областными и национальными формами, тем меньше шансов у какой-либо из этих форм возвыситься до значения общерегиональной, и соответственно наоборот. Это соображение дает нам ключ если не к решению, то к более верному пониманию самой проблемы, формулируемой в вопросе: какие тенденции в образовании и динамике общерегиональных форм преобладают сегодня в музыке Латинской Америки?
Бросим еще раз взгляд в прошлое. Мы помним, что на начальном этапе конкисты и колонизации вся музыка колоний — и народная и профессиональная, и светская и духовная — была единой, общерегиональной в прямом значении слова. Это был период полного общерегионального единства на базе испанской (и португальской) музыки. Мы не знаем, как долго продолжался этот период — по всей видимости, он охватывал по меньшей мере весь XVI век,— но уже не позднее XVII в. начался процесс постепенного распада испанского (и португальского) единого музыкального субстрата на креольские музыкальные «диалекты» и «говоры». Наивысшая активность этого процесса приходится на вторую половину XVIII и первую половину XIX в., когда появляются областные музыкальные формы и на основе областных и местных своеобразий формируются национальные музыкальные культуры. В некоторых областях региона этот процесс растянулся на весь XIX век и захватил часть XX столетия, однако параллельно ему приблизительно с середины (или со второй трети) прошлого века обнаружилась противоположная и с течением времени усиливающаяся тенденция к образованию нового общерегионального единства, но уже на базе латиноамериканской музыки. Следствием этой тенденции, которой способствовало чрезвычайно сильное «нивелирующее» влияние европейской музыки, явилось исчезновение многих областных и местных и возникновение общерегиональных музыкальных форм. Как мы помним, первая известная нам общерегиональная форма в латиноамериканской музыке — хабанера распространяется по континенту именно в это время — между 1850 и 1860 гг.
Таким образом, если на основном этапе эволюции латиноамериканской музыки (XVII—XIX вв.) действовали центробежные силы, то начиная по крайней мере с середины XIX в. и по сей день преобладают центростремительные тенденции, которые, сглаживая, а зачастую и полностью стирая местные и областные своеобразия, тем самым способствуют образованию общерегиональных форм — таков главный для нас вывод, который мы могли бы при необходимости подкрепить достаточным количеством конкретных примеров, оставшихся за рамками очерка. Но и те немногие примеры, которые были приведены нами, свидетельствуют, что число латиноамериканских общерегиональных музыкальных форм растет, а промежутки времени между их появлением сокращаются по мере приближения к нашим дням. Следовательно, эта тенденция не только существует, но и усиливается. Очень большую роль в этом процессе играют современные средства массовой информации — кино, радио, телевидение, грампластинки, магнитофоны. Они вносят значительные коррективы в прежнюю географию территориального распространения и путей движения музыкальных жанров и стилей, активизируют взаимообмен между разными с точки зрения «музыкальных диалектов» областями и зонами континента и объективно способствуют образованию в современной музыке Латинской Америки новых общерегиональных форм, хотя одновременно ускоряют процесс вытеснения и исчезновения местных и областных жанров. Такова реальная картина на сегодня, и нет оснований полагать, что завтра она кардинально изменится.
1 Цит. по кн.: Vega С. Panorama de la musica popular
2 Ibid. P. 283—284; Grenon P. J. Nuestra primera musica instrumental//Rev. estud. musicales.
3 Raygada C. Panorama musical
4 Liscano J. Apuntes de folklore comparado//Rev. venezolana folklore. 1968. Mayo, N 1. P. 67.
5 Cabrera A. S. de. Rutas de America.
6 Carpentier A. America Latina en la confluencia de coordenadas historicas у su repercusion en la musica//America Latina en su musica.
7 Ibid. P. 17.
8 Grenet E. Musica cubana//Musica popular cubana.
9 Ibid. P. XXIII.
10 Carpentier A. La musica en
11 Vega C. Los origenes
12 Gesualdo V. Historia de la musica en
13 Alvarenga O. Musica popular brasileira. Rio de Janeiro etc., 1950. P. 292.
14 Mendoza V. T. La cancion mexicana: Ensayo de clasificacion у antologia.
15 Carella T. El tango:
16 Ibid. P. 26—27.
17 Vega C. El origen de las danzas folkloricas.
18 Vega C. Danzas у canciones
19 Цит. по кн.: Gesualdo V. Op. cit. P. 921.
20 Carella T. El tango. P. 63.
21 Vega C. Danzas у canciones
22 Mendoza V. T. Lirica narrativa de
23 Mendoza V. T. El corrido de la revolution mexicana.
24 Ramon у Rivera L. F. Origen de algunos corridos tachirenses//Rev. venezolana folklore. 1970. N 3. P. 37—71.
25 Mejia S. E. Romances у corridos nicaraguenses.
26 Alvarenga O. Op. cit. P. 271.
27 Sarmiento D. F. Facundo.
28 Aretz I. Costumbres tradicionales
29 Lavin C. Criollismo literario у musical//Rev. musical chilena. 1967. N 99. P. 26.
30 Espinosa A. M. Romancero de Nuevo Mejico.
