Кечуа
 Праздники воплощения предков тесно связаны с первобытными религиозными представлениями, но их пережитки долго сохраняются и в классовом обществе. Вера в предков, якобы периодически возвращающихся в наш мир, чтобы наполнить его своей энергией, не исчезла после образования первых государств, и соответствующие общинные праздники стали сосуществовать с более развитыми формами религиозного культа.
Праздники воплощения предков тесно связаны с первобытными религиозными представлениями, но их пережитки долго сохраняются и в классовом обществе. Вера в предков, якобы периодически возвращающихся в наш мир, чтобы наполнить его своей энергией, не исчезла после образования первых государств, и соответствующие общинные праздники стали сосуществовать с более развитыми формами религиозного культа.
В доколумбовой Америке настоящие государства (а не «вождества», как у манаси) возникли в двух областях. Во-первых, на территории Центральной и Южной Мексики, Гватемалы и сопредельных районов Гондураса и Сальвадора (эту историческую область называют Мезоамерикой). Во-вторых, в Центральных Андах, то есть в Перу, и на северо-западе Боливии.
Территория Перу делится с запада на восток на три географические зоны. Вдоль океана тянется пустыня, в которой годами не выпадает дождя. Жизнь здесь возможна только по берегам текущих с гор рек и ручьев. Далее на восток к небу вздымаются величественные Анды с их субтропическими долинами и холодными плоскогорьями, растительность которых напоминает тундру. Еще восточнее начинается Амазонская низменность, влажные тропические леса. Древние цивилизации сложились лишь в двух первых областях.
В истории Древнего Перу можно выделить несколько главных этапов. Со времени первого проникновения сюда человека и до VIII—VII тысячелетия до н. э. главным источником существования местных племен являлась охота на крупных животных. Затем люди стали постепенно осваивать новые отрасли хозяйства — морское рыболовство, земледелие, скотоводство. Примерно с середины II тысячелетия до н. э. ведущая роль окончательно перешла к земледелию, которое приобретало все более интенсивные формы: в пустынях прокладывались каналы, на крутых склонах сооружались террасы, в болотистых местностях насыпались высокие гряды, защищавшие растения от переувлажнения.
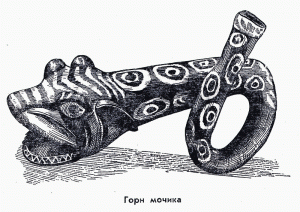 Появилось и профессиональное ремесло: гончарство, ткачество, обработка дерева, камня, металла. Деревни превращались в поселки и городки, на месте небольших святилищ строились монументальные храмы. Выделились вожди, объединявшие под своим началом сперва несколько соседних селений, а затем и целые долины. Процесс становления государства растянулся на два- три тысячелетия и завершился в первых веках нашей эры возникновением цивилизаций мочика на северном побережье, уари и тиауанако в центральных и южных районах горной области. В дальнейшем одни цивилизации гибли, другие приходили им на смену. В XV веке государство инков разгромило своих соперников и захватило земли от Центрального Чили до Южной Колумбии, но вскоре было уничтожено испанскими конкистадорами.
Появилось и профессиональное ремесло: гончарство, ткачество, обработка дерева, камня, металла. Деревни превращались в поселки и городки, на месте небольших святилищ строились монументальные храмы. Выделились вожди, объединявшие под своим началом сперва несколько соседних селений, а затем и целые долины. Процесс становления государства растянулся на два- три тысячелетия и завершился в первых веках нашей эры возникновением цивилизаций мочика на северном побережье, уари и тиауанако в центральных и южных районах горной области. В дальнейшем одни цивилизации гибли, другие приходили им на смену. В XV веке государство инков разгромило своих соперников и захватило земли от Центрального Чили до Южной Колумбии, но вскоре было уничтожено испанскими конкистадорами.
Перу — одна из тех областей Южной Америки, где с геометрическим, символическим рисунком сосуществовала традиция создания сюжетных, натуралистических изображений. Фигуры фантастических змей, птиц, антропоморфных существ, выполненные на тканях и различных мелких предметах из глины и кости, известны на побережье уже с III тысячелетия до н. э. Начиная с середины II тысячелетия до н. э., создатели древнеперуанских культур украшали храмы монументальными росписями и рельефами с изображением божеств и культовых сцен.
 В древнейшем искусстве Анд сравнительно часто можно встретить изображения существ, играющих на духовых музыкальных инструментах. Огромный сравнительный материал по различным группам американских индейцев XVI—XX веков доказывает, что чаще всего такие инструменты употреблялись во время религиозных праздников, а издаваемые ими звуки считались голосами духов. Очень вероятно, что в основном культовый характер имели и древнеперуанские рожки, свирели и горны, а сцены на стенах храмов запечатлели эпизоды праздника, в ходе которого боги и предки как бы возвращались на землю.
В древнейшем искусстве Анд сравнительно часто можно встретить изображения существ, играющих на духовых музыкальных инструментах. Огромный сравнительный материал по различным группам американских индейцев XVI—XX веков доказывает, что чаще всего такие инструменты употреблялись во время религиозных праздников, а издаваемые ими звуки считались голосами духов. Очень вероятно, что в основном культовый характер имели и древнеперуанские рожки, свирели и горны, а сцены на стенах храмов запечатлели эпизоды праздника, в ходе которого боги и предки как бы возвращались на землю.
Самое первое по времени изображение духового инструмента в Перу обнаружено в одной из прибрежных долин к югу от Лимы. При раскопках поселка, который был обитаем в конце III или начале II тысячелетия До н. э., найдена костяная подвеска. На ней выгравированы три пары хвостатых существ, может быть обезьян, дудящих в рожки. В период после Колумба подобные рожки передавали «голос дьявола», главным образом на юге и востоке Южной Америки, где не получили распространения более сложные и крупные инструменты.
Создатели культур конца II — начала I тысячелетия до н. э, во время ритуалов играли на свирелях, трубили в морские раковины и свистели в свистки. Об этом известно как по находкам самих предметов, так и по их изображениям. Большие духовые инструменты появились примерно в середине I тысячелетия до н. э. и были, возможно, заимствованы у племен Амазонии.
 В 1975 году американский археолог Р. Бёргер изучал памятники долины реки Мосна на севере горного Перу. Здесь на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря расположены развалины храма и окружавшего его городка, хорошо известные не только ученым, но и туристам. Это Чавин, давший название одной из самых знаменитых археологических культур древней Америки. Храм возник в начале I тысячелетия до н. э. В течение нескольких веков мастера-камнерезы трудились над его отделкой, украсив стены здания великолепными фризами, а площадь перед ним — стелами. Вокруг Чавина по долине рассеяно несколько небольших поселений, где найдены такие же плиты с изображением людей и божеств, что и на «столичном» памятнике. Довольно необычно, что памятники искусства подобного класса встречены на «периферии». Возможно, что обитатели долины Мосны устраивали церемонии в каждом поселке по очереди, поэтому даже в меньшем из них им приходилось возводить внушительный ритуальный комплекс, способный принять всех гостей. У современных перуанских горцев древний праздник очистки оросительных каналов тоже «передвигается» от селения к селению, пока не обойдет всю округу.
В 1975 году американский археолог Р. Бёргер изучал памятники долины реки Мосна на севере горного Перу. Здесь на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря расположены развалины храма и окружавшего его городка, хорошо известные не только ученым, но и туристам. Это Чавин, давший название одной из самых знаменитых археологических культур древней Америки. Храм возник в начале I тысячелетия до н. э. В течение нескольких веков мастера-камнерезы трудились над его отделкой, украсив стены здания великолепными фризами, а площадь перед ним — стелами. Вокруг Чавина по долине рассеяно несколько небольших поселений, где найдены такие же плиты с изображением людей и божеств, что и на «столичном» памятнике. Довольно необычно, что памятники искусства подобного класса встречены на «периферии». Возможно, что обитатели долины Мосны устраивали церемонии в каждом поселке по очереди, поэтому даже в меньшем из них им приходилось возводить внушительный ритуальный комплекс, способный принять всех гостей. У современных перуанских горцев древний праздник очистки оросительных каналов тоже «передвигается» от селения к селению, пока не обойдет всю округу.
Среди развалин одного из маленьких поселков американский археолог обнаружил каменную плиту с изображением божества, трубящего в прямой, слегка расширяющийся к концу горн. Судя по стилю, изображение было сделано в середине или третьей четверти I тысячелетия до н. э. Этот рельеф заставляет вспомнить обряды тукано, араваков и других племен, участники которых употребляли горны во время праздника воплощения предков. По-видимому, не случайно самое раннее изображение подобного горна в Перу встречено в районе, откуда через долину реки Мараньон, в которую впадает Мосна, открывается дорога в Амазонию. Для древних перуанцев она имела большое значение, так как по ней в горы и дальше на побережье Тихого океана поступали продукты, которые можно добыть только в тропическом лесу. Сам Чавин превратился в крупнейший для своего времени центр, так как его жители контролировали эту дорогу. Дело в том, что поблизости от развалин храма в Мосну впадает другая речка. Она довольно глубока и отличается быстрым течением, поэтому вброд ее перейти невозможно. Обитатели Чавина построили через речку каменный мост и брали, надо полагать, плату со всех, кто по нему проходил. Простояв около трех тысяч лет, этот мост был разрушен в 1945 году селевым потоком. Поскольку посредническая торговля с Амазонией имела для Чавина большое значение, не приходится удивляться, что высеченные на стелах и фризах божества имеют облик животных тропического леса (чудовищные кайманы, ягуары, орлы-гарпии). На изображениях из их тел выступают типичные для Амазонии культурные растения, в частности маниок. Это еще один пример того, как экономические обстоятельства могли обусловливать в древнем обществе форму религиозных воззрений.
 От создателей культуры чавин большие ритуальные горны попали на побережье Перу. На рубеже нашей эры подобные инструменты, вылепленные из глины, стали встречаться в погребениях культур мочика и наска. У мочика они часто заканчивались изображением головы чудовища, угрожающе раскрывшего пасть. Наска расписывали фигурами божеств поверхность горнов.
От создателей культуры чавин большие ритуальные горны попали на побережье Перу. На рубеже нашей эры подобные инструменты, вылепленные из глины, стали встречаться в погребениях культур мочика и наска. У мочика они часто заканчивались изображением головы чудовища, угрожающе раскрывшего пасть. Наска расписывали фигурами божеств поверхность горнов.
Гораздо труднее объяснить, как и когда ритуальные горны проникли из Амазонии в Мезоамерику, к древним майя. Отсутствие таких инструментов у североамериканских индейцев и удивительное внешнее сходство с культовыми духовыми инструментами араваков позволяет думать, что все подобные предметы имеют общее происхождение. На многих изображениях майя внимание привлекают фигуры людей, трубящих в огромные горны, сделанные, по всей вероятности, из свернутой спиралью коры. Вполне возможно, что запечатленные на росписях дворцовые церемонии также связаны с обрядами воплощения предков.
С тех самых пор, как европейцы покорили Америку, здесь появились представители своеобразной профессии — грабители древних могил, для которых подобная деятельность служит основным источником дохода. В Перу этих людей называют «уакеро», от «уако» - «древний горшок». Создатели многих доиспанских культур имели обыкновение класть вместе с покойными сосуды и ткани, украшенные сюжетными изображениями. Только на перуанском побережье таких древних изделий найдено более полумиллиона. Особенно интересны изображения культуры мочика. Для современного европейского зрителя это самый понятный и привлекательный художественный стиль из всех существовавших в доколумбовой Америке, а может быть, и во всем древнем мире. Неудивительно, что мочикские сосуды стоят сейчас на западе многие тысячи долларов.
Долгое время оставалось загадкой, что изображают росписи на сосудах мочика. Некоторые ученые видели в них сцены из повседневной жизни, поскольку набор сюжетов довольно разнообразен. Здесь и война, и охота, и рыбная ловля, и сцены, которые можно было принять за «бытовые». Однако анализ десятков тысяч изображений заставил нескольких ученых одновременно прийти к заключению, что все они так или иначе связаны с какими-то ритуалами. Парадные сосуды мочика не изготовлялись для того, чтобы сразу же класть их в погребения. Прежде, чем попасть в могилы, предметы с изображениями использовались во время неизвестных нам обрядов. Сцены на вазах запечатлели отчасти реальных участников церемонии, отчасти мифических первопредков, полулюдей-полуживотных, то есть тех самых существ, которые «являются» на праздник воплощения духов по всей Южной Америке.
В пользу этой гипотезы есть много этнографических подтверждений. Так, у индейцев канело в Эквадоре накануне главного в году праздника женщины лепят из глины множество сосудов и расписывают их фигурками мифологических персонажей. Во время праздника из этих сосудов пьют, с ними танцуют, держа в руках или на голове. Тем самым предки как бы присутствуют среди живых, наделяя их своей силой. Одновременно мужчины изображают другую группу духов, надев маски. После завершения обрядов сосуды разбивают. Древние перуанцы вместо этого использовали подобные предметы в качестве погребального инвентаря, что совершенно логично, ибо умершим как нельзя более приличествует взять в иной мир вещи, уже служившие вместилищами для его таинственных обитателей.
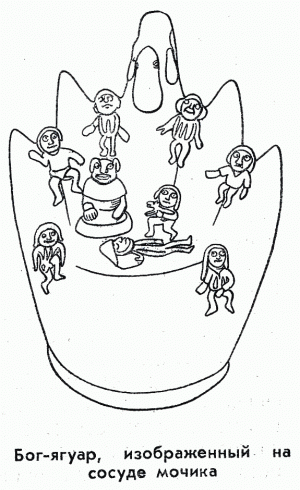 Праздники воплощения предков сохранились в горном Перу до сих пор. Главная их особенность — тесная связь с земледельческими ритуалами, стремление обеспечить урожай на полях. Здесь ярко виден трудовой характер обрядов. Граница между действиями, имеющими символическое значение, и теми, которые продиктованы хозяйственной необходимостью, почти неуловима. Если для амазонских индейцев межобщинные праздники — это не только отражение определенных верований и представлений о мире, но и способ рациональной эксплуатации дикой фауны, то у индейцев Анд ритуалы воплощения предков преследуют другую цель — сконцентрировать усилия всей общины на самой главной и ответственной работе сельскохозяйственного цикла: очистке оросительных каналов от накопившегося в них за год песка и ила.
Праздники воплощения предков сохранились в горном Перу до сих пор. Главная их особенность — тесная связь с земледельческими ритуалами, стремление обеспечить урожай на полях. Здесь ярко виден трудовой характер обрядов. Граница между действиями, имеющими символическое значение, и теми, которые продиктованы хозяйственной необходимостью, почти неуловима. Если для амазонских индейцев межобщинные праздники — это не только отражение определенных верований и представлений о мире, но и способ рациональной эксплуатации дикой фауны, то у индейцев Анд ритуалы воплощения предков преследуют другую цель — сконцентрировать усилия всей общины на самой главной и ответственной работе сельскохозяйственного цикла: очистке оросительных каналов от накопившегося в них за год песка и ила.
Самое раннее описание праздника очистки каналов относится к началу XVII века. Оно принадлежит испанскому священнику Ф. де Авиле, который в совершенстве освоил кечуа, наиболее распространенный в Перу индейский язык, и вел на нем свои записи. Самые недавние наблюдения сделаны в наши дни. Однако наиболее подробную информацию удалось собрать перуанскому этнографу и археологу X. Тельо 70 лет назад во время посещения глухих деревушек района Каста. Эти места расположены неподалеку от перуанской столицы Лима на обращенных к океану склонах Анд.
Свой праздник местные жители справляли в честь божества Уальяльо, иначе Уари, или Уа-Кон. В мифах, легендах и ритуалах этот персонаж выступал в разных образах. Он и древний господин всех богов и людей, и ягуароподобный людоед в горной пещере, и хозяин вод, дождя, грома, и бог растительности, приход которого возвещает расцвет, а уход — увядание. В июне, когда над горизонтом впервые после полуторамесячного перерыва восходит созвездие Плеяд, в святилище Уальяльо приводили роскошно одетого человека. Говорят, что он добровольно бросался в бездонную расщелину в скале. Судя по древним мочикским изображениям, падающий со скалы человек должен был предстать перед сидящим на троне получеловеком-полуягуаром.
Из-за преследований церкви индейцы уже давно перестали ублажать Уальяльо человеческими жертвами, но и во времена Тельо к расщелине тайно собирались знахари и колдуны. Они бросали вниз морских свинок, листья коки, обладающие тонизирующими свойствами, и лили чичу.
Праздник начинался с того, что ночью знахари и старейшины отправлялись к склепу, где был захоронен предок, именуемый «мáлькo» (по сути дела одно из воплощений Уальяльо). Там они жевали коку, пили чичу, гадали и танцевали под звуки священной трубы чирисуя.
Эта труба, или, скорее, кларнет, имеет определенное сходство с ритуальными духовыми инструментами племен Амазонии, хотя и снабжена медными и серебряными деталями. Расширяющийся к концу деревянный корпус напоминает амазонские горны в форме раструба. В мундштук трубы чирисуя вставлялось расщепленное перо кондора, из-за чего ее звук становился вибрирующим и резким.
После танца шаман входил в склеп и беседовал е предком, рассказывал ему о всех горестях, постигших народ за год, о том, что каналы пришли в негодность. Же будет ли малько возражать, если люди возьмутся за их очистку? Малько, естественно, соглашался. Когда наутро начинались работы, никто не мог отказаться участвовать в них, ведь это означало оскорбить божестве, предков. Никакие санкции деревенских или более высоких властей не смогли бы обеспечить усердие работающих столь же верно, как это делали страх перед недовольством сверхъестественных сил и надежда на их поддержку. Люди разделялись на четыре команды. Первую Составляли представители администрации деревни и знахари — они лишь наблюдали за работой (в древности это были знать и жрецы). Во вторую команду зачисляли мужчин, в третью — женщин, в четвертую — девушек. Каждой команде давали своих музыкантов.
Праздник труда длился неделю. Работа была нелегкой, но постоянно прерывалась танцами, песнями и церемониями. Поженившиеся в течение года мужчины и женщины должны были в эти дни пройти испытание, соответствующее древней инициации. Старейшинам надо было предъявить свежесорванные растения, которые встречаются либо высоко в горах, либо глубоко в долинах. Для этого молодожены бежали в разные стороны, чтобы успеть вовремя вернуться: женщины — с цветами, мужчины — со стеблями травы. Тем самым они должны были показать свою энергию и выносливость.
Самый торжественный момент праздника наступал, когда запруды открывали и в очищенные от ила каналы устремлялась вода. Вместе с ней возвращались в свои обиталища уари — прародители, хозяева вод, подчиненные великому Уальяльо. Готовясь к встрече со сверхъестественными существами, должностные лица селения надевали плащи с рисунком косого креста на спине. Эта деталь может показаться маловажной, но она имеет глубокий смысл. Уже на стене храма конца III тысячелетия до н. э., раскопанного японскими археологами в Центральном Перу, запечатлены скрещенные руки. Аналогичный жест встречается на мочикских изображениях, в каменной скульптуре мексиканских ацтеков. Что он означает, могут и сейчас рассказать жрецы племени коги, живущего в горах Северо-Восточной Колумбии. Это (как и любой косой крест вообще) — символ индейской вселенной, ее четырех концов и центра, то есть знак праздника, происходящего в центре мира и в начале времен.
В последний день торжеств молодежь наряжалась в костюмы и маски хозяев вод, уари, малько. Изображать предков считалось почетным и разрешалось лишь тем, кто особенно отличился на работе. Этой чести добивались юноши и девушки, намеренные вступить в брак. Выйдя из селения, ряженые шли вдоль полей и каналов, а затем разбегались по холмам и скрывались из глаз. Считалось, что духи тем самым возвратились в свой мир. Это был мир дикой природы, снежных вершин и горных озер, опасный и в известном смысле враждебный обитателям селения. Однако лишь в нем, по мысли индейцев, люди черпают свои силы, оттуда приходит вода на поля, там пасется на пастбищах скот. Хотя духи гор (уамани) беспощадны к нарушителям традиций, они щедро одаряют тех, кто живет по заветам предков.
Сейчас пышный церемониал в честь Уальяльо отошел в прошлое, но многие пережитки обрядов сохранились, все больше сливаясь с занесенным из Европы католическим карнавалом. Это неудивительно, ибо европейский карнавал в значительной мере восходит к таким же праздникам воплощения духов, какие мы видели у индейцев. Само название «карнавал» произошло от латинского «каррус-навалис», то есть «колесница-корабль»— название культовой повозки, на которой в древности (судя по данным раскопок, еще в бронзовом веке) во время праздника везли фигуру мифического существа.
Преимущественным местом обитания духов перуанцы считают горы. По сей день индейцы Южного Перу смотрят на постоянно живущих на высокогорных пастбищах скотоводов как на «диких» (салька), «одержимых и проклятых» (конденадо). Когда в июне во время праздника пастухи спускаются в долину, они стараются в рамках ритуала оправдать такое мнение о себе, совершая допускаемые по этому случаю непристойности.
В этих современных обрядах, как и в средневековом карнавале, слились две части древнего праздника: начальная, предусматривавшая строгое разделение мужчин и женщин и явление духов в их грозном облике, и завершающая, веселая, в которой все члены племени участвовали вместе. На этой стадии первобытный по происхождению праздник еще сохраняет свою главную цель — обновление мира, использование для поддержания жизни таинственных «потусторонних» сил, преодоление страха смерти. Знаменитый мексиканский карнавал с его танцующими скелетами, ярко раскрашенными черепами-калаверами, страшными масками — самый известный пример такого рода. Его конкретные символы, как и день проведения (31 октября), восходят к западноевропейской традиции, в которую, однако, вдохнули новую жизнь древние индейские культы,
И все же в подобных ритуалах многое утрачено. Даже индейцы района Каста, о которых рассказал перуанский ученый X. Тельо, сделали первый шаг к разрушению обрядовой традиции, разрешив изображать духов молодым людям обоего пола. Тем самым было снято деление на посвященных и непосвященных, а значит, стало возможно превращение церемоний в игру. Если духам некому больше внушать страх, к ним перестают относиться с прежней серьезностью. Тогда праздник вырождается в детское развлечение, и ряжеными становятся мальчики и девочки. Именно в этой форме пережитки обрядов воплощения духов сохранились в северной части Европы. В других случаях карнавал остается общенародным, но теряет почти всякий религиозный смысл. Такой современный карнавал типа бразильского имеет глубокие психологические и социальные корни, но духи тут уже ни при чем. О значении подобных обрядов писали другие авторы, мы же вернемся к первобытным племенам.
